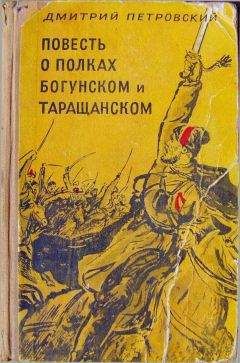Уже однажды, правда, Кабула слышал стоны этой глыбы. Это было полтора месяца назад в Шепетовке, когда пришло известие о гибели его жены. Батько стонал и мучился и тогда.
Но тогда его жалобы были членораздельными, жалостными словами, и эти жалостные и гневные слова как бы сами имели болеутоляющее значение: они имели человеческий смысл, хоть и были похожи на бред, и казалось, что исцеление вот-вот наступит.
Но сейчас здесь это бессловесное, гневное стенанье страдающего не только от физической боли человека, но страдающего больше всего от сознания бессилия своего вырваться из этой связанности, слабости и утолить свою скорбь, и свой гнев, и свою ненависть, — вот что было страшнее всего.
Какой же завет скажет батька, скажет воплощенная человечья былина эта, скованная из героизма и великого мужества, умирая в великих муках?
И больше всего Кабуле хотелось услышать от умирающего батька это освобождающее заветное последнее слово.
И думал Кабула, что если батько не произнесет его и умрет в этой немоте сейчас, то и сам он, Кабула, не в состоянии будет до самой смерти своей (быть может, и скорой) в непрекращающихся жестоких боях произнести, найти выраженный в слове гнев. Но батько сказал это слово,
Щорс дожидался поезда, везущего батька, в Бердичеве уже два часа, выехав ему навстречу из Житомира с четырьмя врачами, из которых двое были хирургами, вызванными из Киева. Кто знает, почему Щорсу казалось необходимым вмешательство хирургии, хотя здесь имело место вовсе не ранение, а отравление. Ему хотелось верить, что батька можно еще спасти операцией,
Щорс ходил по платформе, заложив руки за спину, своей обычной легкой и бодрой походкой.
Самая внешность Щорса — легкость и ритмичность движения его фигуры, за которой разгадывалась кипучая энергия, прямота и смелость, и лицо его с мягкими и вместе строгими чертами — прямым носом, правильно поставленными глазами с широким и ясным разрезом, волевыми губами и подбородком, — все в нем свидетельствовало о воле и целеустремленности.
Встретив Щорса, трудно было отвести от него взгляд: он притягивал к себе какой-то особенной значительностью и тем, что называется обаятельностью.
И два киевских профессора-хирурга, прохаживаясь со Щорсом по перрону и разглядывая с любопытством своего собеседника, знаменитого бойца украинской Красной Армии, о котором слышали они столько легенд, никак не могли представить себе, что этот прославленный командир еще два года тому назад был простым военным фельдшером и прапорщиком.
Перед ними был образец нового человека, с новой культурой, с новыми человеческими качествами.
— Совсем не похож он на рубаку, — говорил один из хирургов — Полторацкий, когда Щорс отошел от них, услышав звонки, чтобы посмотреть, не приближается ли поезд с умирающим другом.
— Поезд с батьком Боженко подходит, товарищ комдив!.. — крикнул, подбегая, комендант станции,
Щорс вдруг заволновался. Нервная волна, как душем, окатила его и передалась остальным. Он побледнел, и вслед за тем на щеках у него выступил яркий румянец. Брови его твердо сошлись, и вдруг он стал тем Щорсом, которого знали люди в бою: весь из воли и напряжения.
— Ну, пойдем, — сказал Щорс, — батько приехал.
Батько лежал в лазаретной качалке, поставленной посреди салон-вагона. Глаза его были полуоткрыты. Он уже был извещен полчаса тому назад, когда вдруг внезапно пришел в сознание — за все время восьмичасовой езды от Шепетовки, — что в Бердичеве ждет его Щорс и что поезд подходит к Бердичеву.
Название Бердичева вызвало у батька больные ассоциации, и он, видимо обрадовавшись встрече со Щорсом, которой он так жаждал, все же помрачнел, и выражение лица его стало неопределенным, хотя и как бы успокоенным, не таким, каким оно было во время бреда — в течение всего пути, когда он страшно стонал, напоминая Кабуле разгневанного раненого льва.
Но в этой успокоенности была скорее усталость: горькие и жесткие складки залегли между бровями и по щекам, страшно осунувшимся. Так он лежал, не закрывая глаз, почти все эти полчаса.
Но, когда поезд стал тормозить и остановился, лицо батька вновь стало оживать, опять приобрело волевые черты, и он с усилием кашлянул и взглядом потребовал утереть ему губы. Он даже высвободил руку и пытался сам отереть вспотевшее лицо.
Кабула помочил полотенце в воде с уксусом и освежил. ему лицо. Батько благодарно посмотрел на него, но ничего не сказал: он, видимо, берег силы для Щорса. А говорить ему было очень трудно.
Поезд дрогнул и остановился.
Щорс шел скорыми шагами вдоль состава, издали увидав вышедшего на ступеньки вагона Кабулу, махавшего ему рукой. Он вспрыгнул на ступеньки, не дождавшись остановки поезда, поддержанный Кабулой, и вошел в вагон, оставив врачей и на минуту даже позабыв о них.
Батько, увидев входящего Щорса, сделал попытку приподняться на локте, но Щорс, подходя, махнул ему рукой, и Кабула быстро подошел к батьку, желая помочь ему поудобнее повернуться к Щорсу.
— Здравствуй, Василий Назарович, дорогой!..
— Здоров, браток… здоров, Микола!.. — Старик крепко, сколько мог, поцеловал Щорса, прижав его к себе слабой рукой.
— Ну, как ты?.. Не журись, будем жить мы с тобой! Я подниму тебя на ноги!
— Задави ты тую гидоту, Микола… задави… — сказал батько и замолк, любовно оглядывая стройного Щорса, присевшего возле него на табурете. — Генеральное давай… — сказал он тихо, как будто передавал последнюю свою мечту.
— Дадим! — сказал Щорс. — А сейчас давай устроим генеральное твоей болезни. Я привез докторов для консилиума.
Батько махнул рукой.
— Вези меня, Микола, до себе, до Житомира, бо не хочу я вмерти в дорози, там я буду вмирати.
Щорс вдруг понял со всей ясностью то, что было на самом деле.
В первый момент известия об отравлении Боженко он принял эту весть во всей ее жестокости и непоправимости. Но с тех пор как он узнал, что батько живет, говорит и что он едет сам к нему, хоть и больной, надежда на лучший исход, свойственная всем людям, постепенно стала овладевать им.
— Ну, едем… — сказал Щорс. — Отвезу тебя к себе, Василий Назарович, отвезу тебя в Житомир. «Спасибо за честь», — хотелось сказать ему, но он не сказал этого, чтобы не подчеркивать того, что было так скорбно.
— Спасибо!.. — сказал батько.
Щорс кивнул головой Кабуле, и тот вышел, чтобы дать сигнал к отправлению. Он пригласил врачей зайти в вагон к умирающему.
Боженко заметил вошедших и спросил Щорса:
— Дохтура?..
— Да, — сказал Щорс. — Может, пусть все-таки они осмотрят тебя.
Но батько махнул рукой и потерял сознание.
Врачи ушли. В салон-вагоне, чтобы не утомлять батька, остались лишь Щорс, Кабула, Полторацкий да санитар.
Батько открыл глаза, глубоко выдохнул воздух и сразу обратился к Щорсу, Как будто он все время обморока преодолевал какие-то препятствия и наконец вырвался к другу:
— Расскажи мени, Микола, як на фронте и де буде генеральное сражение?..
И Щорс, ни на минуту не впадая в тон жалостливой няньки или сиделки у постели умирающего, но в том обычном тоне, в каком он всегда делился и советовался с боевым своим товарищем о своих замыслах, рассказал ему все.
Вдруг батько приподнялся, лицо его стало грозным, и он прокричал:
— Тепер… слухай сюди, Микола… не перебивай!.. Зроби так, як я скажу!..
Кабула подбежал, поддержал батька под руки и поправил ему подушку, почувствовав вдруг, что батько умирает и это последняя его речь, во время которой он не хочет лежать.
— Поховай мене в Житомири на бульвари… де той Пушкин… — Батько остановился.
Полторацкий поднес ему какую-то микстуру, но батько отстранил ее и продолжал:
— Той великий поэт: он там на площи… там… Придуть ти контры-собаки… придуть и викинуть мене з могилы… будуть знущаться з мого трупу… Нехай! Бо побачуть люди, уси побачуть и заплачуть… бо им буде жаль… з того знущания… И пидуть вони раптом уси, и твои бойцы ударять, Микола, з усией силы и ро-зибьють наших врагов насмерть, бо того знущання не стерпит нихто… Ото ж я и мертвый згожуся до бою!..
Он посмотрел темнеющим взором на Щорса и нал на его руки.
Мучительная агония борющегося со смертью богатырского тела длилась несколько минут.
И все время Кабула со страхом прислушивался к хрипению в батьковой груди, почти с ужасом думая, что вот-вот он услышит опять тот нечленораздельный, нечеловеческий стон, который он слышал несколько раз в пути и который заставлял его сердце напрягаться так, что Кабула боялся, что оно разорвется.
Но батько затих, тело его распрямилось и стало длиннее, гораздо длиннее обычного, как показалось Кабуле.
— Смерть… — сказал Щорс. — Прощай, батько!..
— Да, смерть, — сказал Полторацкий и, отвернувшись, заплакал.