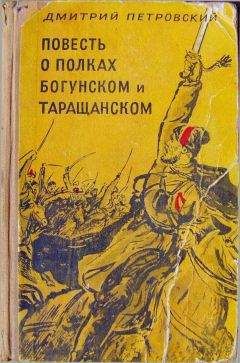— Да, смерть, — сказал Полторацкий и, отвернувшись, заплакал.
Заплакал и Кабула. У Щорса тоже сверкнула и покатилась по щеке слеза.
А поезд мчался к Житомиру.
И еще три часа провел Щорс, сидя у изголовья умершего и думая о том великом завете, который оставил ему боевой товарищ. И не мог он думать ни о чем ином, кроме всего того, что помнил об этом несравненном человеке, с которым так много у него связано было боевых и человеческих дел, и казалось, что не год провели они вместе, на одном фронте, но прожили целую жизнь неразлучно — и вот разлучились…
Но нет, батько и мертвый остался живым, и мертвый он едет в бой за Житомир.
«И долго, — подумал Щорс, — будет он воевать за родину, этот богатырь, вечный Илья Муромец, рождаемый народом в лихую годину для защиты от обид и неправд, от врага и набежчика, — сказочный богатырь, несломимая сила русской земли».
Кусок живого сердца вырвала у Щорса эта смерть, и Соль в нем не утихала.
Траурные трубы протрубили по Житомиру о смерти батька. Но не мертвый — хоть и бездыханный — подъехал он к нему. Положенный на лафет, от самого вокзала проехал он по улице к штабу, как знамя, зовущее к бою.
И встретившие и сопровождавшие его богунцы, Щорсовы курсанты и новгород-северцы шли суровые и торжественные под штыкам, и звякнули прикладом о мостовую, и стали разом все на караул, когда остановился траурный лафет на Пушкинском бульваре.
И вышел Щорс вперед и склонил над батьком боевое богунское красное знамя, данное самим Лениным в 1918 году.
Поклонился тем знаменем Щорс батьку в прощальном поклоне и сказал:
— Товарищи бойцы, славные богунцы, таращанцы и новгород-северцы… Потеряли мы в борьбе с контрреволюцией одного из славных товарищей — знаменитого командира!.. Слышите вы за Житомиром канонаду? Слышите, как рвется враг в наш родной город? Он знает, трижды проклятый, кого мы сейчас хороним. Он знает, трижды проклятый, что здесь на время задержались мы, чтобы отдать честь боевому командиру. Так знайте же завещание батька: «Не отдавайте мне почета пустым салютом, а отдайте мне. почет боевым салютом, боевым артиллерийским ударом — из четырех, как из двенадцати, — да так, чтобы меньше на несколько сотен стало тех подлюг и изменников от одного салюта!» Так просил нас батько — не тратить ни одного патрона и ни одного снаряда в воздух, салютуя ему на прощанье, а прямо в сердце врага направить тот салют. Выполним, товарищи, этот завет бойца… Многое хочется сказать об этом человеке, но нет времени у нас на то. И, может быть, мы, когда отвоюемся, а может, те, кого здесь нет, но кто знал батька, как мы, — его верные таращанцы, те, кто уцелеет в бою, — расскажут о нем все, что хочется сейчас нам сказать здесь. Слушайте вы, весь народ украинский. Мы, уходящие в бой, полны мести за эту потерю… может, не вернемся… Так слушайте же вы и передайте от поколения к поколению завет бойца: «И бездыханный хочу принимать участие в сражении за свободу народа и буду в бою с вами мертвый». И теперь, товарищи, пока будут опускать гроб в могилу с траурным маршем, — вперед! На врага, до полной победы! За мною! Прощай, батько!.. Не прошу тебя мирно лежать: все равно ты окажешься с нами в бою,
Щорс подошел к батьку, крепко поцеловал в уста своего боевого друга и сказал:
— Прими этот поцелуй от всей Красной Армии.
И снова заиграли трубы знаменитого капельмейстера-таращанца Кивина, следовавшего за батьком со всем оркестром, соединившись с трубами богунцев.
Это заиграли «Интернационал» те трубы, которые сопровождали батька в бой и трубили этот гимн после победы, когда возвращались таращанцы с поля сражения.
И под звуки тех труб пошли в бой богунцы и новгород-северцы, ведомые Щорсом.
А между тем Кабула осторожно опускал на веревках красный гроб батька рядом с памятником великому поэту, обращенному к батьковой могиле задумчивым лицом.
Спускал Кабула тот гроб в могилу и не плакал: он слышал последние слова батька и знал, что сбудутся эти слова. Его привычное к бою ухо улавливало по долетающим звукам разрывов за Житомиром, что приближается бой к городу, — и не улежит батько долго в земле, а, как сказал он в последней пророческой речи своей, встанет, чтоб биться и мертвым с врагом.
Выроют его из земли, но и рубанет же их батько мертвый так, что посыплются кругом сотни их голов! И потому сровнял с землею место похорон Кабула и не насыпал могильного холма: засекретил он батька от срага, уложил то место свежим дерном.
А сам он не смел долее оставаться: имел он приказ Щорса немедленно отправиться в полк и повернуть полк в тыл неприятелю, на Новоград-Волынск. Уже дал боевое распоряжение Кабула своему помощнику Рыкуну соединиться с полком Калинина и двинуть между речками Смолкою и Случью на Рогачев, чтобы прийти на помощь окружаемому неприятелем Житомиру.
Нет, не плакал Кабула над батьковой могилой. И тот львиный рев, что остался в его ушах от стонов батька, разрастался в его груди, превращаясь в неистощимую гневную силу.
Трудно было ехать Кабуле в вагоне, слыша отдаленный приближающийся к Житомиру грохот боя, но не имел он права вернуться и тотчас ввязаться в него. Поседели виски Кабулы от этого гнева, и скрутил он плеть из воловьих жил так, что разорвалась, распалась она на куски, как ветошка.
И приняся точить Кабула на оселке саблю.
Посходились к нему и другие ехавшие с ним в вагоне бойцы и тоже принялись точить сабли.
«Ой, жив он, жив, ой, жив же ж, жив!» — высвистывали сабли. И знал Кабула, что батько жив, не умер, и заговорит его душа гневными беспощадными боями с отравившим его врагом.
«Ой, жив, я жив, не згинув, жив!. — пела уже десятая сабля бойца на Кабулином оселке.
А Щорс ворвался клином в неприятельские пени, разломил их неистовым ударом надвое, зашел врагу в тыл, развернулся на обе стороны, как поступал с кавалерией в рейде, хоть у него не было здесь кавалерии, за исключением дивизионной разведки, оставленной на всякий случай на фланге, чтобы прикрывать артиллерию.
Но инерция галлеровой шляхты, рвавшейся уже два дня к Житомиру и узнавшей, что в городе траур, была такова, что не успел еще Щорс ударить в спину неприятельской пехоте, а уж кавалерия неприятеля ворвалась в город и стала рыскать по городу и искать могилу красного вождя…
.. Повернулся батько в гробу и сказал из-под земли:
«А ну, подойдите, проклятые собаки, погляжу я на вас мертвыми очами…»
Не батько повернулся в гробу, а вытряхнули его подлые осквернители из гроба: еще не успел и уснуть он как следует в смерти.
И пикой пробили ему пилсудчики мертвые глаза и привязали арканом за шею, волоча геройское тело по Житомиру, и, оторвав ему голову, забросили ту знаменитую голову в бездонный колодец, а тело порубали на куски и растащили по всему городу на пиках: там лежала рука, там нога, и казалось, что все боялись они, что срастутся богатырские члены; и всё охотились за ними шляхетские всадники, упражняясь пиками, и казалось, что с одним только мертвым примчались они сражаться.
О, если б задержался на тот час Кабула и увидел бы он это надругательство проклятой шляхты над героем, — один на один вступил бы он в сражение с целым конным полком, и немало голов отделил бы он отточенной до искры саблей и забросил бы их в колодец.
Но хоть и не увидел этого Кабула, мчавшийся к своему полку, а чуяло его сердце, что мертвый батько там где-то один воюет. И точил он саблю и клялся под неумолкаемый в его ушах стон, похожий на гнезный львиный рев, что нарубит он мелкой капусты из панских плеч с золотыми погонами.
— Пошинкую в капусту я ту стервоту! — выговаривал он, выглядывая в окошко и грозясь гневными глазами в сторону оставленного Житомира,
Но клялся в этом не только Кабула: все житомирские жители, видевшие издевательство над свежей могилой бойца, клялись — безоружные и никогда не мечтавшие воевать, — что вступят они в ряды красных войск, как только те вернутся.
И послали рабочие свою делегацию к Щорсу, чтобы отыскали его и сказали о том, что делается в Житомире. Но Щорс знал и без делегации, что делается в городе, и приказал он своей артиллерии вместе с кавалерийской разведкой, ворваться в Житомир и ударить вдоль улицы на картечь.
Попадали паны, как груши, на землю, когда, завидев въезжавшую в город артиллерию, понеслись от нее вдоль улиц, и в какую улицу ни помчатся — там и наткнутся на говорящие с ними огнем жерла пушек, давно приученных к смелому, кинжальному удару.
А кавалерийская разведка заехала с вокзала, и с гиком два полуэскадрона понеслись на врагов с тылу. И ни один не ушел живым из того конного уланского полка, что надругался над телом Боженко.
Пока артиллерия громила вражеских улан, Щорс всадил штык в зад петлюровской пехоте, и кричали петлюровцы, как лисы, попавшие в тенета, запутавшись среди ночи и не разбирая, где свои, где чужие, Зато красные бойцы не ошибались, — и в особенности беспощадно работали штыком щорсовцы-курсанты, впервые за все время трехмесячного учения выпущенные в бой.