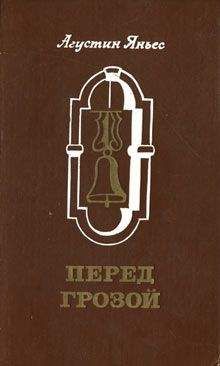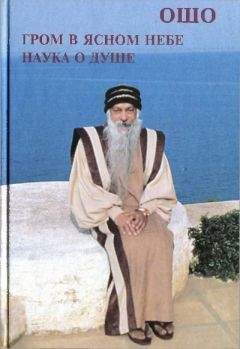— Белый, низкорослый он, с бородкой, нервный и симпатяга… — Лукас Масиас на память знает, что сказал Мадеро корреспонденту «Эль пане» в последнем интервью.
Сынишка Хулиана, родившийся мертвым на следующее утро после лунного затмения, замучил Мерседес лихорадкой угрызений совести. «Я убила его своей завистью; по ведь я не желала его смерти; я пыталась подавить в себе тоску но чужому счастью». Она но ела, но спала, никого не хотела видеть. Чувство стыда охватывает ее даже в присутствии Марты, как будто бы та, как и все, пришла обвинять ее. Распростершись на постели, она не может прервать поток рыданий — ни днем, ни ночью; высокая температура, быстрое изнурение; лицо и руки точно восковые; глаза горят, воспалены, ее преследуют галлюцинации. «Я убила его!» Дон Рефухио посоветовал как можно скорее перевезти ее в Гуадалахару. «Тоска по чужому счастью!» По тем далеким дням, когда Хулиан ухаживал за пей, следил за ней сияющими глазами, а она пренебрегла нм. Бездонная пропасть воспоминаний. Завистливые взгляды, бросаемые ею на живот беременной жены Хулиана, злоба, вызванная довольным видом Хулиана. «Я убила их ребенка!» Грешное ощущение злой одержимости в ту ночь, когда она получила его первое письмо. «Тоска по чужому счастью!» Дон Ансельмо Толедо, не теряя времени и против воли дочери («Хочу умереть здесь! Не увозите меня из селения, ради всего святого!»), в первых числах июня увез ее в Гуадалахару. Многие часы, многие педели и месяцы крики Мерседес, когда ее выносили из дома, когда она уже была на другом берегу реки, звучали в ушах, в душе Марты, в памяти обитателей селения. («Меня везут убить! Меня везут убить!») Как раскаленный добела светящийся гвоздь, рассыпающий искры.
Однако еще больше поразил всех припадок у падре Исласа. Гораздо больше. Все были поражены настолько, что многие уже не смогли выйти из тупика всяких догадок, куда они зашли, обдумывая это событие. Ужасное событие, потрясающие обстоятельства. Во время мессы он только-только раздал причастие и еще, похоже, не намеревался приступить к омовению, как вдруг разразился ужаснейшими воплями и упал в конвульсиях; его невозможно было удержать; он прикусил язык, на губах его выступила пена, лицо раздулось, и стенания его, наводившие страх, казалось, исходили из потустороннего мира, тогда как руки то крепко-накрепко сжимались, то разжимались, словно в попытке что-то сломать; его окружили прихожане, однако не все, приблизившись, могли выдержать это зрелище — прикушенный язык, закатившиеся глаза, пена на губах, неслыханные вопли; и тут все потеряли представление о том, где они находятся, — послышались пронзительные выкрики, рыдания, полное светопреставление. Поспешно пришел сеньор приходский священник — и впервые люди увидели его в замешательстве, он не мог скрыть своего испуга; однако вскоре он овладел собой и распорядился, чтобы падре Исласа перенесли в приходский дом, что не без труда сделали семеро мужчин, порядком обессилевших из-за паники, вызванной душераздирающими предсмертными хрипами и дьявольскими гримасами, столь несовместимыми со священническим облачением заболевшего. А сколько людей так и не смогут выйти из тупика догадок, куда их загнало ото событие!
Недавние смерти и нынешнее августовское спокойствие, гражданский долг, призывавший к празднованию в селении Столетия Независимости, радость для некоторых жителей поехать на праздники в столицу республики или в столицу штата — все это отодвинуло на задний план и весть об аресте дона Франсиско И. Мадеро, и надежду увидеть комету, и даже приговор Дамиапу Лимону.
Тринадцатого августа, в день успения богоматери, среди жертв сильнейшей летней жары, царившей в том году, оказалась и старшая дочка Хустино Пелайо, бойкая, прелестная девочка, радость семьи и всего селения; ей скоро должно было исполниться одиннадцать лет, и кончина ее всех крайне огорчила. Приходский священник присутствовал на похоронах, когда совершенно неожиданно в его памяти всплыло воспоминание об исповеди Хустино — примерно два поста тому назад. Он поведал дону Дионисио о том. как однажды ночью, сраженный искушением, направился к реке в поисках греха, таясь от людей и от собственных мыслей, и как не раз он готов был повернуть обратно, но шел дальше, обуреваемый страстями, стыдом и страхом; его преследовал образ одной женщины, приехавшей на неделе, прелести и чары которой многократно обсуждались на тайных мужских беседах; однако картины его мирного очага — его добрая супруга, его маленькие дети — не покидали его; что-то они делают в эти часы? Консуэло — такая милая, вероятно, молится или уговаривает мать рассказать ей какую-нибудь историю о святых. И сколь далека была семья от непристойных его вожделений, сколь чужды были они пылу, горевшему в его крови, болезненному любопытству, толкавшему его вперед, толкавшему идти все дальше — в ночь! А если из-за него с ними что-нибудь случится? Как сможет он вернуться к ним, прикоснуться к невинной дочке. Страсти, однако, оказались могущественнее, они подавили его чувства отца и супруга. Едва ли не лишаясь чувств, он постучал в двери греха. А что в те мгновения делали его жена, его невинные дети? Предатель, оплачивающий наслаждения горечью. Нет, хуже — уверенностью в том, что его грех приведет к роковым последствиям. Бесплодным было желание не покидать свой дом. Тоскливым — понимание того, что он уже далеко, заблудился, осужден на то, чтобы не вернуться. Казалось, не наступит время, когда он сможет уйти, добраться до своей улицы, почувствовать себя снова дома, пожелать спокойной ночи соседу. Как тяжело добрести до своих дверей, сесть за ужин, услышать невинные вопросы! Им не узнать о его предательстве. Разумеется, они не могут и подозревать о нем — и это еще хуже. Он долями был покаяться в своем отвратительном грехе, должен был покаяться перед женой, не должен был прикасаться к детям, к любимой старшей дочке. Но не сделал этого. Грязными руками коснулся невинности.
Все эти подробности вдруг обрушились на приходского священника. Впервые с ним случилось такое; никогда не покидала его божья благодать, — забывать обо всем, что поверяли ему в тайне исповеди; никогда, ни при каких обстоятельствах он не вспоминал то, что услышал, каким бы ужасным и необычным это ни было; а сейчас господь как будто оставляет его на произвол судьбы, подвергает новой пытке: нарушая печать тайны, вновь пережить, пусть в воспоминании, услышанное на исповеди, что, как ему представлялось, забыл он в момент отпущения грехов. Он даже покраснел, его бросило в пот, он отшатнулся от Хустино и опустил глаза долу, опасаясь, как бы не отразились слишком явственно в его взгляде запретные воспоминания.
И снова — в какой-то необъяснимой связи — в его памяти вспыхнуло воспоминание о приснившемся ему давно сие; его охватило смутное, но острое беспокойство о Марте и о Маргот. Какую глупую оплошность он допустил, не проявив интереса к их душевному состоянию! Мария! Ее нынешняя молчаливость, ее раздражительность и суровость требовали внимания. И в самом деле, кто-то ему говорил, а быть может, ему кажется, что ему кто-то сказал… Нет, нельзя верить тому, о чем ему сказали; да, да, сейчас вспоминается, что ему кто-то сказал, будто бы как-то видел Марию… может быть, это было сказано кем-то на исповеди, может быть, это чье-то чрезмерное рвение… может быть, падре Ислас… нет, это дьявольское наущение… ему сказали или ему почудилось, что Мария, с колокольни, смотрела на тот проклятый квартал и на паперти разговаривала с одной из тех женщин… искушение сатаны! Никто не мог сказать ему этого, никто не мог осмелиться! Нет!.. И что она беседовала с вдовой Лукаса Гонсалеса, и что читает запрещенные романы, и что от нее можно слышать чересчур смелые суждения…
Падают горсти земли на гроб девочки — и будто ударяют в виски приходского священника. («Лучше была бы Мария».) Все его чувства — человеческие, отеческие — бушуют против страшного подозрения. («Нет! Моя девочка, моя бедная девочка!») И возникает отчаянное желание увидеть ее, сжать ее в объятиях, как тогда, когда она была маленькой; и думать только о ней, се счастье; он страшится того, что, увидев ее, не скажет ей нежного слова, не обратится к ней с улыбкой, — он, такой суровый, он виноват в том, что его любимой девочке не везет в любви. («Вдова Лукаса Гонсалеса давно сбилась с пути. Это, по крайней мере, не тайна исповеди. Но ведь невозможно допустить, чтобы Мария с ней разговаривала. Зачем я держу Габриэля вдали от нее? Если они любят друг друга, лучше бы их поженить…») Головокружение вызывает у старика тошноту. От тягостных мыслей священника отрывает хриплый голос Хустино:
— Что больше всего меня мучает, так это, когда подумаю, что виноват-то я. И вот наступит день, и нам уже ничего не потребуется, никому, и мне тоже. И ее забудем.