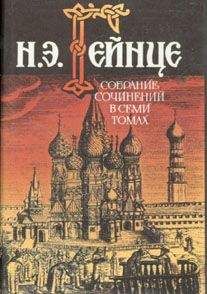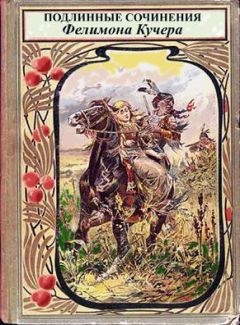Она склонила голову на бок и посмотрела на него тем особенным взглядом, в котором таилась какая-то загадка. Что выражал этот взгляд? Радость или только торжество одержанной победы?
Под обаянием взгляда он бросился к ее ногам.
Мог ли он поступить иначе — она была очаровательна.
Он схватил ее маленькую нежную ручку и прижал ее к своим горячим губам.
— Я люблю вас, Мадлен! Люблю безумно, страстно и жить без вас не в состоянии! Вы вылечили меня. Вы оживили во мне умирающие страсти и, оживив их, не должны их убивать. Умоляю вас, скажите мне, любите ли вы меня?
Молча она наклонилась к нему.
Их губы слились в горячем поцелуе.
Мы пугаемся иногда немедленного исполнения желания, считаемого почему-либо невозможным или преждевременным.
И Савин, под влиянием своего неописуемого счастья, стоя на коленях у ног Мадлен, покрывая поцелуями ее руки и платье, чувствовал среди своего блаженства смутную тоску и страх.
На следующий день Мадлен написала своему банкиру, чтобы он не рассчитывал на ее возвращение в Вену, так как она любит другого и любима им.
Ей было только девятнадцать лет.
Она происходила из очень хорошей французской дворянской семьи. Ее мать умерла, когда Мадлен была еще ребенком, отец же ее был убит в франко-прусскую войну, командуя полком при защите Парижа.
Воспитание она получила в Sacre-Coeur, откуда вышла по окончании курса, семнадцати лет, и поселилась у своего опекуна господина д'Обольи, друга и боевого товарища ее отца, который любил ее, как родную дочь.
Но недолго пришлось ей жить у ее благодетеля.
Граф д'Обольи вскоре скоропостижно умер, оставив молодую и неопытную девушку совершенно одну.
Не имея никого: ни родственников, ни близких друзей в Париже, ей пришлось с семнадцати лет жить совершенно самостоятельно одной, что, конечно, опасно для хорошенькой и молоденькой девушки, особенно в современном Вавилоне.
Вскоре она познакомилась у одной из своих институтских подруг с молодым человеком Жоржем Дюпоном, который стал за ней ухаживать и наконец сделал предложение. Согласившись выйти за него замуж, Мадлен стала, как жениха, принимать его у себя, но эти визиты окончились не свадьбой… И вскоре Жорж Дюпон исчез.
После этого рокового шага жизнь в Париже сделалась для Мадлен невыносимой. Она уехала в Швейцарию, где встретилась с бароном Кенигсватером и сошлась с ним.
Это было за год до знакомства с Савиным.
В упоении счастья Николай Герасимович, конечно, забыл и думать об игре и перестал ездить в Монте-Карло.
Да и в Ницце у него было очень много дел: он купил виллу, куда и перевез жить Мадлен.
Это была прелестная маленькая вилла на берегу моря, по дороге в Ville Franche, окруженная роскошным садом из апельсиновых и пальмовых деревьев.
В главное здание переехала Мадлен, а Савин устроился в небольшом павильоне, находившемся в глубине сада, куда перебрался и Петр с вещами барина.
Устроившись и роскошно отделав новое жилище, Мадлен и Савин справили новоселье.
Мадлен пригласила всех друзей и знакомых, а также некоторых дам высшего полусвета.
Вечер очень удался.
Ужин с икрой, рябчиками и огромными стерлядями, выписанными Николаем Герасимовичем из России, произвел положительный фурор.
На другой день все ниццские газеты были переполнены описанием прелестного вечера у Мадлен де Межен, биографиями русских стерлядей-гигантов, выписанных в Ниццу с берегов Волги всем известным русским барином господином Савиным.
Большую сенсацию произвело на этом вечере поднесение Николаем Герасимовичем всем присутствовавшим дамам сувениров в память новоселья.
Эти сувениры состояли из ценных порт-боннеров.
Его милой хозяйке он поднес бриллиантовое колье, за которое заплатил пятьдесят тысяч франков.
Мадлен была в восторге, и Савин радовался еще больше, видя ее радость.
Начался медовый месяц влюбленных.
Николай Герасимович боготворил Мадлен, и та отвечала ему взаимным обожанием.
Казалось, что после многолетнего плавания по бурному житейскому морю, Савин наконец обрел себе тихую пристань, сулившую ему вечное счастье.
После праздника, особенно первое время, Савин и Мадлен вели замкнутую жизнь. Изредка, впрочем, они ездили в Монте-Карло.
Мадлен любила играть в рулетку, но не умела.
Николай Герасимович учил ее.
Время летело.
Как-то раз Мадлен и Савин были в казино в Монте-Карло.
Она сидела и играла, а он, стоя за ее спиной, наблюдал за ее игрой и давал советы.
Мадлен поставила золотой на 26, и номер этот вышел, но не успела она взять еще отсчитанные крупье тридцать шесть золотых, как к этим деньгам протянул руку какой-то стоящий сзади господин.
— Позвольте, — заметила Мадлен, — это деньги мои, так как я поставила золотой на 26.
— Нет, это поставил я, и если я говорю, то мне должны поверить скорее, нежели какой-нибудь кокотке! — горячился господин, произнося эту фразу с сильным итальянским акцентом.
Молодая женщина побледнела, на глазах ее показались слезы. Савин вспыхнул.
Он сам видел, как Мадлен поставила золотой на 26, а выражение этого нахала он не мог оставить без внимания.
— Эта дама со мной, милостивый государь, а потому прошу вас быть поосторожнее в выражениях. — заметил ему Николай Герасимович.
— Мне какое дело с кем она, я вижу птицу по полету и имею право называть кокотку кокоткой.
Не успел он договорить этой фразы, как Савин размахнулся и дал ему увесистую пощечину.
Получивший удар итальянец схватился за щеку и, что-то ворча на своем языке, выбежал из залы.
Николай Герасимович, успокоив Мадлен, просил ее продолжать игру.
Не прошло и часа, как вдруг в залу вбежал побитый итальянец и, подойдя к Савину шага на три, выхватил револьвер и выстрелил в него.
— Вот как мстят итальянцы за оскорбление! — воскликнул он при этом.
Итальянец, однако, промахнулся, и пуля задела лишь рукав сюртука Николая Герасимовича.
Произошел скандал, итальянца схватили, увели в контору, а оттуда с двумя жандармами отправили на границу Италии.
В княжестве Монако не любят скандалов и возбуждения уголовных преследований, предпочитая немедленное выпроваживание виновного на границу княжества, что очень удобно, так как границы Франции и Италии находятся в нескольких стах шагах, от Монте-Карло.
Таким-то образом поступили и с покушавшимся на жизнь Савина итальянцем.
В тот же вечер, в то время, когда Савин, Мадлен, Деперьер и граф де Ренес обедали в «Hotel de Paris», лакей подал Николаю Герасимовичу две визитных карточки, графа Лардерель и Монтальфи.
— Эти господа просят вас выйти в соседнюю комнату по очень важному делу… — добавил лакей.
Савин вышел к ожидавшим его незнакомцам. Они объяснили, что приехали от имени господина Карлони, которого он сегодня оскорбил в казино, вызвать его на дуэль.
— Этот вызов мне кажется очень странным… — произнес Николай Герасимович, — господин Карлони покушался на мою жизнь, а таких людей во всех странах мира называют убийцами и предают в руки правосудия, но не дают им удовлетворения чести.
— Если вы отказываетесь драться с моим приятелем, посягавшим, как вы говорите, на вашу жизнь, то надеюсь не откажетесь драться со мной, так как я считаю ваш отказ для меня личным оскорблением… — сказал граф Лардерель.
— Я буду ожидать ваших секундантов у себя в Ницце завтра утром… — с поклоном ответил Савин.
Прибывшие удалились.
Вернувшись к столу, Николай Герасимович передал о случившемся Деперьеру и графу де Ренес, прося их быть его секундантами и приехать утром к нему для переговоров с секундантами графа Лардерель.
На следующий день, в одиннадцать часов утра, Петр доложил Савину, что его желают видеть по известному ему делу граф Диджирини и маркиз Кассати.
Это и были секунданты графа Лардерель, приехавшие для переговоров с секундантами Николая Герасимовича.
Приняв их, согласно правилам дуэли, сухо, но вежливо, Николай Герасимович представил их уже сидевшим в его кабинете Деперьеру и графу де Ренес и затем оставил их для переговоров с глазу на глаз.
Спустя некоторое время, Деперьер и де Ренес пришли сказать Савину, что между ними все условлено, что драться назначено завтра утром на шпагах, и местом поединка выбрана франко-итальянская граница близ Ментона.
На другой день рано утром, с первым отходящим поездом, Савин со своими секундантами и доктором Гуараном выехали в Ментон. Приехав туда, они взяли экипаж и поехали к назначенному месту.
Местом поединка была выбрана глухая местность, у самого берега моря, в полуверсте от проезжей дороги, так что туда приходилось идти пешком по узкой горной тропинке.