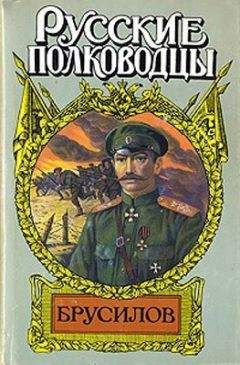Вызванному к аппарату начальнику штаба верховного Алексей Ермолаевич озабоченно сообщил, что у него сейчас сидит командующий 4-й армией генерал Рагоза, которому поручено было атаковать противника у Молодечно.
— Но атаку эту, как я предполагал раньше, придется отменить. Генерал Рагоза сетует мне, что она не может быть успешна из-за погоды и малой подготовки.
Говоря это, Алексей Ермолаевич раздумчиво теребил бороду и хмурился, глядя сосредоточенно на носок своего сапога.
— Что думает по этому поводу Михаил Васильевич? — бубнил он таким неуверенным тоном, точно видел одно спасение в совете Алексеева. — Как ваше мнение? Не кажется ли вам, что мой план атаки на Барановичском направлении, как я вам уже докладывал, гораздо более разумен?..
Он вышел из аппаратной, высоко держа голову, подняв широкие плечи. В глазах его все еще видна была озабоченность, но вместе с тем проглядывала удовлетворенность.
— Мы получили с вами, — сказал Алексей Ермолаевич Квецинскому, — полное и решительное одобрение нашего плана от Михаила Васильевича. Он сказал, что идти на риск с негодными средствами — нелепо. Придется разогорчить бедного Рагозу… Он все еще пишет? Конечно, Брусилов опять жаловался на меня. Я сказал, что еще полчаса назад дал распоряжение Лешу форсировать атаку на Пинск, но что сомневаюсь в успехе, так как, судя по донесению Брусилова, у него у самого на участке восьмой армии дела идут неважно…
Они прошли в оперативную. Рагоза и его начальник штаба встретили Эверта стоя. Они закончили свою работу и с сияющими лицами доложили об этом. Эверт, улыбаясь, но не принимая рапорта, повел их за собой в кабинет. На этот раз он сел в кресло, благодушно попукивая из-под усов Преображенский марш.
— Итак, вы закончили свою работу? — спросил он Рагозу и тотчас же обернулся к его начальнику штаба. — Отнесите, голубчик, этот документ в мою личную канцелярию. Пусть занумеруют и впишут во входящий. — Он сделал какую-то неразборчивую пометку в верхнем углу докладной записки и протянул ее начштаба армии: — И сами проследите, чтобы все было выполнено в исправности… А мы тем временем кое о чем потолкуем, дорогой мой, — опять обратился Алексей Ермолаевич к Рагозе.
Когда дверь за начштаба армии захлопнулась, Эверт тяжело из-под нахмуренных бровей взглянул на своего командира.
— Я должен огорчить вас, дорогой мой, вашу записку я никому не передам и сохраню у себя в архиве.
Рагоза приподнялся со своего места.
— Но почему, смею спросить, ваше высокопревосходительство?
— Нет, нет! Никаких официальностей, — остановил его Эверт и обезоруживающе улыбнулся. — Мы беседуем с вами как товарищи, по чистой совести… Почему, спрашиваете вы? Да потому, что я принужден, отметьте себе, принужден считать, что удар на участке, выбранном у Молодечно, ни к чему хорошему не приведет. Я говорю так после беседы с Михаилом Васильевичем. Он меня убедил. Приходится думать об общих задачах, а не частных. И вы тут, голубчик, ни при чем. Вы сделали что могли. И при личном с вами разговоре я не мог не согласиться, что задача подготовки выполнена блестяще. Но этого мало. Да, мало! Дело не в отдельных тактических успехах, в мелких ударах в тех или иных местах… Эта брусиловская выдумка яйца выеденного не стоит. Мы только распылили свои силы. Вот почему, сознаюсь вам, инициатива отказа от удара на выбранном у Молодечно участке исходит от меня лично. После разъяснений Михаила Васильевича мне стала ясна общая картина… Да, лично.
Алексей Ермолаевич говорил особенно размеренно, убаюкивающе. Он не прибегал к доказательствам, даже не пытался подробнее объяснить свою столь резкую перемену в отношении докладной записки Рагозы. Он внушал. И сам, видимо, наслаждался оборотами речи и своим басом, гудящим без нажимов, плавно. Последние слова: «Да, лично» — он произнес отнюдь не из желания дать понять, что такова его непреклонная воля и спор излишен, а как бы заранее уверенный, что генерал успокоится, когда услышит эти слова, и даже порадуется нм.
Внезапно он склонился вперед, через стол, всем корпусом, изменив своей неподвижности. Он оттопырил губы, и усы его вместе с бородой ощетинились. Рагоза невольно тоже подался к нему, вперед: он угадал намерение главнокомандующего говорить доверительно.
— Я сам дал мысль ставке отменить атаку, — повторил Эверт, переменив редакцию своего первого, ошеломившего Рагозу заявления.
Рагоза смотрел Алексею Ермолаевичу прямо в рот, завороженно. Он отказывался понимать и не смел противоречить. Если бы такую штуку осмелился проделать с ним кто-нибудь другой, он оскорбился бы до глубины души. Но сейчас он сидел потерянный и вовсе не потому, что находился в присутствии высокого начальства.
— Я испросил разрешения перенести удар в другое место, — вдалбливал Эверт командарму. — Нельзя идти на поводу у Брусилова. Его первые успехи не должны увлекать нас и лишать разумной осторожности. Война не решается лихими кавалерийскими наскоками. Опыт двух лет войны говорит нам, что сила наша в стойкости, неподвижности нашего фронта, лишенного достаточного количества вооружения, опытного молодого командного состава и коммуникаций. Неподвижность, как известно, сберегает силы, энергию, боевой запас. Если брусиловское наступление даст нам кое-какой тактический успех и укрепит положение остальных фронтов, — тем лучше. И на том спасибо.
Тут бас Алексея Ермолаевича зарокотал беззастенчивой обидой:
— Скажите мне на милость, дорогой мой! С какой же стати нам таскать каштаны из огня и обжигать себе руки во славу Брусилова? России это не поможет, а нам с вами не прибавит ни славы, ни силы.
Он откачнулся снова в глубину кресла, широкой спиной и плечами ушел в мягкую кожаную подушку высокой готической спинки.
Рагоза все так же ошарашенно не спускал с него все более расширяющихся глаз. «Так вот что! Так вот что!» — повторил он про себя как заклинание, не совсем отдавая себе отчет в том, что значат эти слова.
— Я не сторонник спокойного отсиживания, как Куропаткин, — пояснил Алексей Ермолаевич строго, принимая недоумение Рагозы за несогласие с высказанным мнением, — необходимы маневры. Нужно щекотать врага, беспокоить его, держать его в нервном напряжении. Мы это делаем и будем делать. Но авантюры? Нет, увольте. Ставить себя в глупое положение я не желаю.
Эверт снова надул губы, и борода и усы опять пошли щеткой.
— Так-то-с, дорогой мой, — закончил он и кивнул головой, давая понять все еще пребывающему в гипнотическом трансе генералу, что аудиенция кончена.
Сидя со своим начальником штаба в машине, увозившей его из штаба фронта, Рагоза пришел в себя. Он отдувался, хлопал себя по вспотевшему лбу, запоздало кипятился.
— Но ведь как околпачил! Как провел нас! — восклицал он. — Сначала я все принял на веру. Помилуйте! — ведь такой крупный известнейший генерал!.. Сам Алексеев его боится! И спускаться так низко!.. Из-за личностей с Брусиловым идти на срыв операции! Похваляться этим передо мною!.. — Генерал помолчал и с еще большей обидой: — И ни разу не назвать меня по имени! Не найти нужным запомнить имя-отчество! «Голубчик, голубчик»!.. Какой я ему голубчик? Такой большой человек!
— А вы уверены, что большой? — скосив глаз на своего командарма, спросил шепотом начштаба.
— Что? — крикнул Рагоза, не расслышав.
— Я говорю — вы уверены, что именно в зависти к Брусилову все причины? — уже громче задал начштаба другой вопрос.
— Но ведь он сам признался мне в этом! — выкрикнул командарм.
— Ну, знаете ли, у таких больших людей, каким вы его считаете, эти признания идут ни во что! — возразил начштаба и закрыл глаза от пыли.
Рагоза не нашелся, что ответить, и не успел вникнуть в темный для него смысл ответа — машину встряхнуло в рытвине, и пришлось ловить слетевшую с головы фуражку.
Главнокомандующий Западного фронта, проводив Рагозу, не прекращал весь день кипучей деятельности. Он телеграфировал Алексееву. Над телеграммой пришлось потрудиться очень долго. Каждое слово должно было быть на месте. Эверт тщательно изложил в телеграмме содержание своего разговора с Михаилом Васильевичем. Память Алексею Ермолаевичу никогда не изменяла. Воспроизведя весь диалог, главнокомандующий снова задался вопросом: не лучше ли, отказавшись от Виленского направления, наступать на Барановичи? Ему казалось недостаточным словесное разрешение Алексеева, повторенное дважды. «В таких серьезных делах — семь раз отмерь, один раз отрежь», — ввернул Эверт в свою телеграмму русскую пословицу.
Для выполнения новой операции Эверт испрашивал срок три-четыре недели.
Закончив труд над телеграммой, Алексей Ермолаевич встал, подбоченился, фертом расставил ноги и сделал несколько гимнастических упражнений.