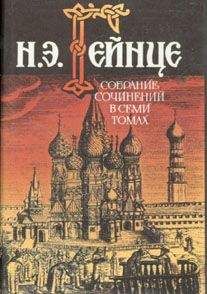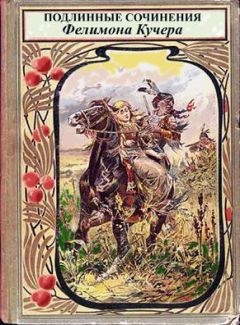Мадлен обещала все исполнить и со своей стороны, сквозь слезы передала ему, что его арест наделал в Париже много шуму, что все газеты полны рассказами о случившемся с разными прикрасами и вариациями. Особенно республиканские и радикальные, которые возмущаются его поступками с сержантом и комиссаром и еще более его поведением в бюро. Они требуют строгой кары и примерного наказания, прибавляя, что надо наконец обуздать этих разных диких князей, бояр и пашей, приезжающих в Париж из своих варварских стран и не умеющих себя держать в цивилизованной свободной стране.
Она также сказала, что многие из кредиторов Савина являлись к ней с требованием уплаты по счетам и векселям, угрожая судом.
Необходимые для Николая Герасимовича вещи она привезла и передала в контору, а также сговорилась с хозяином ресторана «Aux acacias», находившегося напротив Мазаса, относительно стола и вина.
Он взялся ему все доставлять и с сегодняшнего дня пришлет вкусный обед и хорошую бутылку Марго с комиссионером Франсуа, который ежедневно будет ему служить.
Но роковая четверть часа прошла, не дав им наговориться.
Савину пришлось расстаться с Мадлен на два дня и ждать опять с нетерпением минутного свидания.
На следующий день Николая Герасимовича посетил господищ де Моньян, один из знаменитых парижских адвокатов.
Он приехал к нему по просьбе Мадлен.
Это был человек лет сорока, высокий, немного сутуловатый брюнет, с небольшой черной бородой и умным, симпатичным лицом. Савин подробно рассказал ему о случившемся с ним, также о допросе и разговоре с господином Гильо.
— Об этом я уже читал в нескольких газетах, — заметил де Моньян, — пощипывая свою бороду, — там все было подробно описано и по обыкновению даже с прикрасами… дело это само по себе не представляет особой важности, высшее наказание, к которому вас может приговорить суд исправительной полиции, это трехмесячное тюремное заключение, но есть надежда выйти с небольшим наказанием, доказав, что полицейский комиссар сам был виноват, раздражив вас своею грубостью и оскорблением России.
— Но нельзя ли похлопотать, чтобы меня выпустили пока до суда из этой клетки?
— Это, — вздохнул адвокат, — не буду вас даже обнадеживать, очень трудно, почти невозможно. С иностранцами всегда поступают строже, чем с французами; против них принимается всегда высшая мера пресечения, так как французское правосудие ничем не гарантировано в случае, если обвиняемый скроется и уедет за границу… Кроме того, я хорошо знаю господина Гильо, он человек строгий, характерный и, придя раз к какому-нибудь решению, он его не изменит, так что до получения справок из России нечего и надеяться на освобождение.
Николай Герасимович печально поник головой.
— Я, впрочем, съезжу и к следственному судье, и к прокурору республики, похлопочу, но предупреждаю, что из этого едва ли что выйдет… — утешил адвокат клиента.
— Навестите, пожалуйста, m-lle де Межен, успокойте ее.
— Это я сделаю с величайшим удовольствием.
Затем они условились в гонораре.
Граф де Моньян взял с Савина тысячу франков тотчас же и еще тысячу, если он его вполне оправдает.
Николай Герасимович дал ему записку к директору тюрьмы, в которой просил его выдать тысячу франков защитнику из лежащих в конторе его денег. Прощаясь, адвокат обещал его навещать и сделать все, что будет возможно.
Дни шли за днями, дни скучные, однообразные и томительные.
Единственною отрадою Савина были посещения Мадлен, которая не пропускала ни одного дня из назначенных для свидания и приезжала с другого конца Парижа проведать его и побыть с ним хотя несколько минут.
Ранее мы говорили, что Николай Герасимович надеялся на «отечественные порядки» в том смысле, что о деле, производящемся о нем в калужском окружном суде по обвинению его в поджоге, не знают в Петербурге, откуда затребованы были справки парижским следственным судьей.
Надежда эта, увы, не оправдалась.
Пришедшие справки были для него роковыми.
В них с точностью были прописаны не только все его проступки в Петербурге, за которые он даже подвергался административной высылке из столицы, но и то, что он находится под следствием по обвинению в тяжком уголовном преступлении — поджог своего собственнного дома, и, кроме того, получено официальное требование русского правительства о выдаче отставного корнета Николая Герасимовича Савина, как бежавшего от русского правосудия. Французское правительство ответило согласием на это требование, но после суда и отбытия наказания Савиным, если он будет осужден. Весть о требовании России выдачи Савина и об основаниях этого требования дошла до Мадлен из газет, которые с быстротою молнии разнесли ее по Парижу. Они, конечно, не преминули исказить факты.
Некоторые газеты рассказывали, что Савин — известный «нигилист» и что поджог им своего дома имеет политическую подкладку.
На этом основании некоторые радикальные органы защищали Николая Герасимовича и говорили, что французское правительство не имеет права выдавать его России, так как политические преступники пользуются протекторатом Франции.
Все это, прерывая рыданиями, рассказала Николаю Герасимовичу Мадлен и не могла утешиться, несмотря на то, что Савин старался убедить ее, что его обвинение в России — недоразумение, что он не думал поджигать свой дом, что он только был в ночь пожара в своем имении.
Она не понимала его и была неутешна.
— Скажи мне лучше правду, одну правду, умоляю тебя… — говорила она.
— Но я же говорю тебе правду, клянусь тебе!.. — тщетно старался уверить ее Савин. Она только качала головой и продолжала плакать.
Наконец день суда настал. Николая Герасимовича усадили в знакомую уже ему желтую карету и повезли в суд. По приезде в здание суда, его отвели в помещение для арестованных.
Это тюрьма в миниатюре.
В широком, довольно темном коридоре устроены небольшие камеры, аршина четыре длины и двух ширины, камеры эти темные и имеют только одно отверстие в двери.
Арестованных запирают в эти чуланы по пяти, шести человек в каждый.
Помещения эти очень грязны, в них нет даже скамеек, так что арестованные должны стоять на ногах, если не желают садиться на грязный пол.
Воздух в этих чуланах невозможный.
Заседание суда начинается в двенадцать часов и обвиняемых ведут в залу суда целой гурьбой и сажают всех вместе на скамью подсудимых.
Огромная зала суда, в которую ввели Савина, была битком набита публикой.
На возвышении за столом, покрытым зеленым сукном, сидели председатель и два члена, направо от судей сидел прокурор, налево секретарь за особым столом, также покрытым зеленым сукном.
Защитник Николая Герасимовича, господин де Моньян, был налицо и сел близ Савина.
Весь персонал суда и адвокат были в черных длинных тогах, с широкими обшитыми горностаем рукавами, закинутыми на спину. На голове у них были круглые без козырька шапочки из черного бархата, на околышках которых были нашиты серебряные галуны.
Галуны эти различны, так, например, у председателя весь околыш обшит широким галуном, у судей — два галуна, но поуже, у товарища прокурора только один узкий, у адвоката же шапочка совершенно без галуна.
Входя в зал, Николай Герасимович заметил среди публики несколько его знакомых и многое множество кокоток высшего полета.
Савин забился в самый угол скамьи подсудимых и повернулся спиной к публике.
Дело его было назначено в слушание последним.
Наконец очередь дошла до Савина.
Всех остальных подсудимых увели, и он сидел один на скамье подсудимых.
Адвокат еще ранее просил его не горячиться, отвечать вежливо на вопросы председателя суда, а главное, говорить как можно меньше и дать ему полную свободу для защиты.
— Подсудимый, ваше имя, фамилия, звание, национальность?.. — спросил председатель.
— Отставной корнет, Николай Герасимович Савин, русский… — отвечал Николай Герасимович, встав со скамьи.
— Пригласите свидетелей…
В залу были введены свидетели: полицейский комиссар Морель, его секретарь, сержант Флоке, Мадлен де Межен и грум Савина — Джон.
Показания первых трех свидетелей были, конечно, не в пользу обвиняемого.
Они рассказали о его неповиновении требованиям полиции, неуважении к властям и возмутительном поведении в бюро.
Показания же Мадлен и Джона были, наоборот, в пользу Савина.
Из их показаний выяснилось, что сержант Флоке ругался неприличными словами и схватил так грубо правую лошадь под уздцы, что разорвал ей губу до крови.
— В Англии, за такое обращение с чистокровными лошадьми, обвинен был бы полисмен, а не джентльмен, ударивший его за это бичом… — добавил Джон.