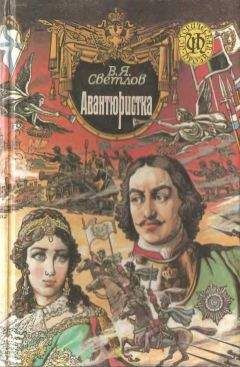— Придумала, королевна.
— Опять, поди, дурость какую?..
— А вот и не угадала. Самое что ни на есть умственное, — засмеялась карлица.
— Что ж такое?
— Бежать тебе надо отсюда.
Марья Даниловна протянула к карлице руку, к которой та прильнула сухими губами.
— За что жаловать изволишь, королевна? — подобострастно проговорила она.
— За умное твое слово. Наконец-то догадалась,
Матришка. Бежать! Да, бежать, слоняться по белу свету, хоть в недостатке и холоде и голоде, по большим дорогам, по дремучим лесам, по разбойничьим притонам и пристаням, но знать, что ты свободна, что никому не должна бить челом, что никого нет над тобою. Не знать сегодня, что будет завтра, лечь холопкой, проснуться царицей, сегодня голодать, завтра пироваться— вот это жизнь, настоящая жизнь… Эх, да что я с тобой говорю, глупая карлица, тебе не понять меня… Бежать, бежать отсюда куда глаза глядят и чем скорее — тем лучше!
Но на лице карлицы появилось вдруг тревожное выражение.
— Ты что? Чего ты испугалась? — спросила ее Марья Даниловна.
— А как же я-то, королевна?
— Да что же ты-то?
— А ключи? Так мне и не ходить в ключах? Не ты разве обещала меня сделать ключницей и старшой над всеми холопами? Что же, ты убежишь, а я одна здесь останусь и меня будут наказывать, запирать в чулан да лишать пищи?
Марья Даниловна закусила губы.
Она теперь только поняла, что без всякой нужды проговорилась и слишком уж доверчиво открыла карлице свои планы.
— Ну, разве ты не дура? — сказала она, опасаясь, что Матришка, разочаровавшись в своих надеждах, выдаст ее с головою и помешает осуществлению ее планов.
— Дура, дура! — проговорила карлица. — То вот тебе умная, а то вдруг, накось, дура! Пошто дура-то? Чем не угодила?
— Дура и есть. Так неужто же тебе невдомек, что ежели ты устроишь убег мой отсюда, то я тебя возьму с собою?
— Ой, правда?
— Правда. Возьму с собою. И, где буду я, там будешь и ты. И мой кусок будет твоим куском. И будешь ты мне не холопкой, а подружкой.
— Ой, хорошо!
— Вот то-то. Только устрой, чтобы нам убежать. Все одно, ежели не вырвусь отсюда — в омут головой брошусь. Невмочь мне жить здесь доле. Словно розовый куст, посаженный в камень, вяну я здесь. А кто знает, какая доля ждет меня в жизни… — мечтательно проговорила Марья Даниловна.
— А узнать можно! — вдруг всплеснув руками, заявила карлица.
— Что брешешь-то? Что выдумала? Как это можно узнать?
— Пес брешет, а не я, — опять возразила своей любимой поговоркой карлица. — Узнать можно.
— Да как же? Скажи!
— В поле, за усадьбой, у леска, табор цыганский. Дюже отлично гадают цыганки. Ежели бы пойти туды, тайным делом, ночью— все тебе, как на ладони, разложат и всю твою судьбу укажут.
— Ах, правда твоя! Я и забыла совсем, что здесь цыгане!
Но лицо Марьи Даниловны вдруг приобрело тревожное выражение после вырвавшегося у нее радостного восклицания.
— Никак этого невозможно, никак! — грустно сказала она.
— Пошто невозможно?
— Слушай, Матришка, нешто ты не знаешь, что было намеднись?
— А что?
— Да как же! Гуляла я под вечер в саду и натолкнулась на молодого цыгана. Красавец такой: глаза что уголья, кожа темная, что у араба, волосы черные, как смоль, — с каким-то восторгом говорила Марья Даниловна. — Подошла я к нему и разговорилась. А только тут шасть из-за кустов стремянный Никиты Тихоныча да давай гнать цыгана, да бить его арапником. Он, стремянный-то, видно, втайне любит меня, вот его сердце и распалилось… Цыган еле ноги унес, да и я поспешила уйти в дом.
— Так что ж? — спросила карлица.
— Как— что ж? То и есть, что, ежели мы пойдем в табор, цыган узнает меня.
— Так что с того, что узнает? — опять спросила Матришка.
— Ну, как же ты не дура после этого? — с досадой проговорила Марья Даниловна. — Цыган-то или испугается меня, или станет злобиться, что ему из-за меня так попало. А то еще что недоброе сделает с нами.
— И вовсе нет. Коли узнает, оно и лучше. Скажем, что мы бежать хотим из дому, ему приятно будет сделать злое дело боярину за наказание, которое он понес в его саду.
— А ты, правда, умница, Матришка, — просветляясь сказала Марья Даниловна.
— Ну, вот опять умницей стала, хи-хи-хи!.. Он нам самую верную цыганку укажет изо всего табора. Она тебе и укажет судьбу твою.
— Ладно. А как же уйти-то?
— А ты скажи своему Никите Тихонычу, что пойдешь в лес по ягоды и меня возьмешь с собой для надзору. А в лесу-то как вроде мы и проплутаем… до сумерек.
Полная луна плыла по темно-синему небу, отражая свой серебристый свет в узкой ленте реки, протекавшей по лужайке.
Вода рябилась от свежего вечернего ветерка, и узкая лента эта казалась странной змеей, покрытой серебряной чешуей.
Там и сям разбросаны были шатры цыганского табора, кое-где опрокинуты были повозки, и стреноженные лошади бродили поблизости у опушки леса, медленно пощипывая луговую траву.
В двух-трех местах горели костры, над тлеющими угольями которых в котелках, привешанных к длинным шестам из тонкого железного прута, варилась каша.
На краю табора раздавалась грустная, полная тоски и неги цыганская песня.
У одного из крайних шатров сидела старая-престарая цыганка, время от времени подбрасывавшая на догоравшие угли костра сухие ветви кустарника, сложенные около нее кучкою.
Тогда пламя вдруг сильно вздымалось, ветви трещали, и синий едкий дымок тоненькой струйкой взвивался к синему небу, усеянному звездами.
Было тихо и безмолвно в воздухе и пахло травою, а порою полевыми цветами, когда проносился свежий, прохладный ночной ветерок и отклонял пламя костра в сторону.
Перед старухой стоял высокий молодой парень, статно сложенный, красавец лицом. Нетрудно было бы при внимательном наблюдении убедиться, что в лицах этого красавца и безобразной старухи было нечто общее, родственное.
Это был, действительно, ее сын, и он говорил матери:
— Больно избил меня боярский служивый человек, матушка. Насилу я мог убраться из сада и добежать до табора. Так он избил меня, что и сейчас спина еще ноет и болит.
Цыганка устремила свой взор по направлению к усадьбе, отсюда почти невидимой и, подняв свой костлявый кулак, погрозила им в пространство.
— Злые люди, — прошамкала она, — а только тебе досталось по заслугам. Зачем ходишь к ним? Что забыл у них? Чего ждешь от них?
— Ах, матушка! Избит я был больно, но зато долго говорил с какой-то красавицей-боярыней. А уж красива — и сказать невозможно! Да что, в нашем таборе есть красивые девушки, а уж такой, прямо нужно сказать, — ни одной! Глядел я в ее очи темные, матушка, и так мне было сладко, что век бы, кажется, не сошел я с того места и все бы глядел на нее и глядел, и все бы слушал ее голосок, что журчанье ручейка.
— Эх, сынок, — заговорила старуха, — не цыганское дело с боярынями знаться! Что синее небо, далеки они от нас, и как звезде небесной не спуститься к нашему очагу, так не видать тебе в нашем таборе и боярыни. Брось думать о ней да подсыпь крупы в котелок.
Молодой цыган исполнил приказание и сел рядом с матерью, задумчиво мечтая о мимолетном свидании в господском саду.
Он знал, что мать права, но при воспоминании о красавице-боярыне сердце его сжималось и болело гнетущей тоской.
Он, который так обожал вольную цыганскую жизнь, — чего бы он не дал теперь, чтобы вдруг сделаться боярином и иметь возможность говорить с этой красавицей!
Но, увы, это была лишь мимолетная сказка, греза в летнюю тихую ночь, промелькнувшая, как яркий эпизод, на фоне его скитальческой жизни!
Он тяжело вздохнул и стал пристально глядеть в красные уголья костра.
— Идет кто-то к нам, — сказала вдруг старуха.
Цыган отвел свой взор от костра и, защитив глаза рукою от разгоревшегося яркого пламени, вгляделся по направлению взоров старухи.
— И то… — спокойно проговорил он и лениво поднялся с места.
К табору пробирались две с ног до головы закутанные женские фигуры.
Одна из них была высокая, стройная и тонкая, гибкая, несмотря на окутывавшие ее одежды, как молодое деревцо, другая была маленькая, горбатая карлица.
Цаган пошел к ним навстречу.
Он подошел близко к Марье Даниловне, но она быстро опустила на глаза кружевной платок, и он не узнал ее.
— Вы что за люди? — сурово спросил он их.
— Мы — дворовые из стрешневской усадьбы, — ответила карлица.
Сердце цыгана захолонуло, и кровь бросилась ему в голову.
— Так что же вам здесь надо? — резко крикнул он им.
— Мы хотим бежать из усадьбы, потому что боярин обращается с нами жестоко.
У цыгана отлегло от сердца.