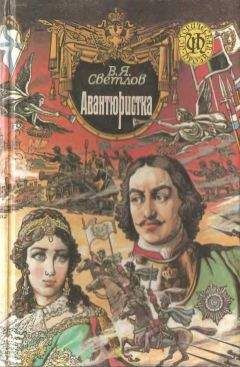Злая и испорченная натура карлицы не переносила людского совершенства и бессознательно озлоблялась против него.
Существенным пороком ее была вороватость, и, несмотря на совершенную бесцельность ее мелких покраж и жестокие кары, которые обрушивались на нее за это, она продолжала тянуть все, что плохо лежало в доме, неведомо зачем и для чего.
Иногда стащенную ею вещь она относила в сад и зарывала под каким-либо кустом, сама забывая вскоре то место, куда она ее прятала; иногда же, не зная, что делать с украденным предметом, она просто бросала его в озеро и бессмысленно приговаривала:
— Вот вам, квакушки, подарочек от карлицы.
И вещь бесследно исчезала в пучине воды.
Накануне она попалась в одной из таких глупых краж, стащив у Натальи Глебовны небольшое и не очень ценное бурмицкое зерно, которым, однако, хозяйка очень дорожила, как перешедшим к ней от матери.
Карлица бросила жемчужину в озеро, проговорив при этом:
— Рыба карпия, вот тебе зернушко в пропитание.
Стремянный Никиты Тихоновича поймал ее на этом преступлении и донес о нем. Стрешнев наказал карлицу и велел жене не давать ей есть в течение целого дня.
И раньше случалось подвергать Матришку такого рода каре, но Наталья Глебовна, по доброте душевной, всегда кормила ее. На этот же раз, очень уж огорчившись потерей, она не только не дала ей есть, но и самолично заперла ее в темную клеть.
Лишение еды было самым ужасным наказанием для жадной и прожорливой карлицы, и, проголодав целый день, она к утру следующего дня возненавидела самым искренним образом Наталью Глебовну и готова была пойти на что угодно, чтобы отомстить ей.
— Здравствуй, королевна, — проговорила своим пискливым голосом карлица, так как имела привычку награждать всех самыми необычайными титулами. — Явиться приказывала?
К Марье Даниловне карлица относилась подобострастно и сама не знала почему сильно боялась взгляда ее глаз.
В ее присутствии она ощущала какой-то мистический страх и считала ее существом неизмеримо высшим во всем стрешневском доме.
— Приказывала, — коротко ответила Марья Даниловна.
— А что повелишь, королевна? — хитро улыбаясь, спросила карлица.
— Садись и слушай.
— Постою перед твоей пресветлой светлостью.
Марья Даниловна пожала плечами:
— Стой, пожалуйста, коли охота. Слушай же, — заговорила она шепотом, подойдя к Матришке, которая замигала глазами в знак особого внимания. — Ты и я — здесь невольницы. Тебя и меня держат здесь из милости, на хлебах, ради Христа имени…
— И людской похоти, хи-хи-хи! — вдруг взвизгнула карлица.
Но Марья Даниловна строго взглянула на нее.
— Молчи, — коротко сказала она. — Не смей меня перебивать и слушай.
— Слушаю, королевна, слушаю.
Она вся как-то съежилась, и лицо ее приняло серьезное и покорное выражение, почти умное. Да и вообще Марья Даниловна никогда не могла понять, представляется ли Мартишка полоумной шутихой или она на самом деле такова.
Марья Даниловна рассеянно взглянула на нее и продолжала:
— Тебя бьют, сажают в чулан, лишают пищи. Меня еще хуже наказывают. Терпеть нам приходится обеим, потому что мы живем розно. Нам нужно помогать друг другу. Лютый ворог наш— Наталья Глебовна. Не будь ее, кто бы был здесь хозяйкой?
Карлица захлопала радостно в ладоши.
— Знаю, знаю, королевна… все знаю… Знаю кто, знаю кто…
Она часто закивала головой, как будто это знание давало ей огромное, неоценимое преимущество перед целым светом.
— А знаешь — знай да помалкивай. Ну, и пока, стало быть, хозяйкой здесь не я, а та… плохо нам будет; а вот тотчас я слышала такое, что и вовсе уж плохо. А была бы я здесь хозяйкой— и тебе было бы недурно. Сделала бы я тебя ключницей, и ходила бы ты у меня, Матришка, в ключах.
— Ой, неужто в ключах?
— Ну да.
— И холопьев бы била ключами?..
— А что ж? И била бы.
— Тебе бы, королевна, служила?
— Служила бы.
— Ой, уж больно хорошо!
— То-то.
— А ты не наказывала бы меня без пищи?
— Я бы, напротив, заставляла тебя за твои провинности есть за двоих.
— Ой, хорошо! Ой-ой, хорошо!
— А чтобы это хорошее было, что бы надо сделать?
— А известно что. Извести изводом боярыню, — с ужасающим спокойствием и простотой проговорила карлица и вдруг, без всякого приглашения села на низенькую скамеечку у ног Марья Даниловны.
— Не ори же так, дура! — испугалась Марья Даниловна. — О таких делах надо говорить шепотом! Неужели не понимаешь?
— И то, — согласилась карлица. — А по мне все едино, что шепотом, что говорком.
— А то еще, ежели изморить нельзя, нужно ее в монастырь упечь— это даже сам Никита Тихоныч додумал. В мою глупую голову и не вступала допрежь того эта мысль.
— Можно и в монастырь. По мне хошь к рыбам и лягухам. И мягко там, на водяных порослях, и глаз не режет, потому зеленая тьма и сверху занавеска така зеленая да густая, что твои щи… Хлебнула, хлебнула сегодня, да незадачно.
— Ну, так смотри же, Матришка. Пока я еще ничего не решила и не знаю, как и что сделаю. А только ежели мне понадобится, так чтобы ты у меня тотчас же была бы под рукою.
— Свистни только — как пес, прибегу, клубочком у твоих светлых ножонок лягу. Дозволь приложиться, царевна.
— Прикладывайся.
Карлица прильнула губами к нижнему краю юбки Марьи Даниловны.
Но в это время приотворилась дверь, и на пороге комнаты показался Никита Тихонович.
Карлица быстро отскочила в другой конец комнаты…
Стрешнев был неприятно поражен ее присутствием.
— Зачем ты здесь, чертова кукла? — резко крикнул он Матришке.
— Как зачем, принц мой ясный? Приказал сторожить королевну… Аль забыл, царевич?
— А… ну, ладно. Ступай отсюда!
Он властным жестом указал карлице на дверь и, когда она уже была на пороге, крикнул ей:
— Да смотри у меня не подслушивать у дверей. Уши оборву и голодом заморю.
Карлица метнула на него страшный по заключавшейся в нем злобе взгляд и молча исчезла за дверью.
Он подошел к двери, приотворил ее и, услыхав, как карлица зашлепала своими мягкими козловыми башмаками по длинной стеклянной галерейке, уходя к себе в светелку, плотно запер дверь и твердыми шагами подошел к Марье Даниловне.
— Вот что, Марья, — торжественным голосом начал он, хотя она тотчас же привычным и чутким ухом уловила тревожный оттенок в этом голосе, старавшемся не изменить своей твердости. — С Натальей Глебовной примирился я душевно, после того, что ты над ней учинила. Подлое это, безбожное было дело! Молчи и слушай! Я знаю, что ты сделала это потому, что душа у тебя низкая. Но Бог спас мою Наташу. Сама, чай, понимаешь, что тебе здесь теперь не житье. Одначе, выгнать тебя из дому опасаюсь, потому, прямо тебе скажу, от тебя всего ожидать можно.
— Не опасайся, Никита Тихоныч. Многие люди измывались надо мною, никому я зла не делала. Не ты первый, не ты и последний. Говори, что придумал.
— А придумал я вот что: жил я с тобой, душевно любя тебя, и, не сделай ты того подлого дела, может быть, и до сих пор любил бы тебя. Ну, случился такой грех — Бог тебе судьей, а не люди и не я, потому за мной грехов немало. Теперь вот что— обидеть тебя не хочу, а загладить грех надо, прикрыть его надо. Думал, было, просто-напросто выгнать тебя, а вот, идучи к тебе, придумал…
— Не тяни, говори прямо.
— Прямо и говорю: решил тебя выдать замуж.
Марья Даниловна громко вскрикнула.
— Меня… замуж?
— Да, тебя.
— За кого же?
— И подходящего жениха нашел.
— Да кто же это?
— Мой стремянный Роман.
— В уме ли ты, Никита Тихоныч?
— А почто не в уме?
— Да лучше убей меня, чем за холопа выдавать… Да лучше я удавлюсь, чем пойду за него.
— Что же так?
Марья Даниловна сделала к нему шаг. Она пристально взглянула на него своими чудными глазами и вложила в них столько выражения горя и любви, что сердце Стрешнева вдруг неожиданно заснуло и кровь прилила к его голове.
— Никита Тихонович, — мягким, дрогнувшись голосом начала Марья Даниловна, — убей меня, вот сейчас тут на месте, убей своими руками — и я возблагодарю тебя и Бога, что Он послал мне такую сладкую смерть. Заставь меня весь век служить тебе холопкой, вели мне делать черную работу денно и нощно, но не выдавай меня за своего холопа. Расстаться с тобой, никогда не видеть, не слышать тебя — лютее казни не мог ты придумать!
— Марья! — пробовал он остановить ее, чувствуя, как слабеет, как ее нежные, страстные речи, вливаясь в его сознание, точно отравляют его сладким, мучительным ядом.
— Нет, нет, это невозможно, — перебила она его. — Ведь я люблю тебя, Никита Тихоныч, ах, как люблю! Никого в своей жизни не любила я так… никогда в своей жизни не мучилась я так от любви.