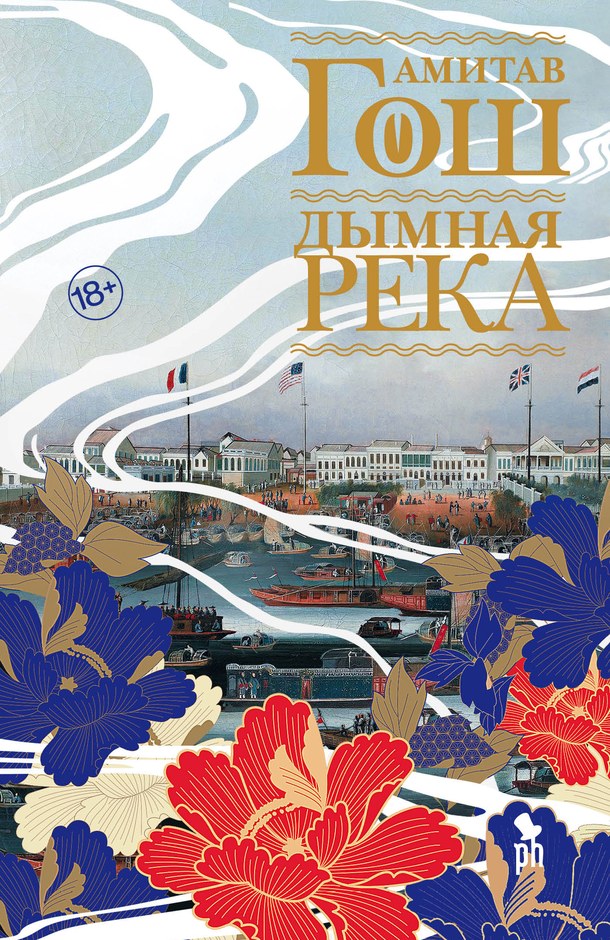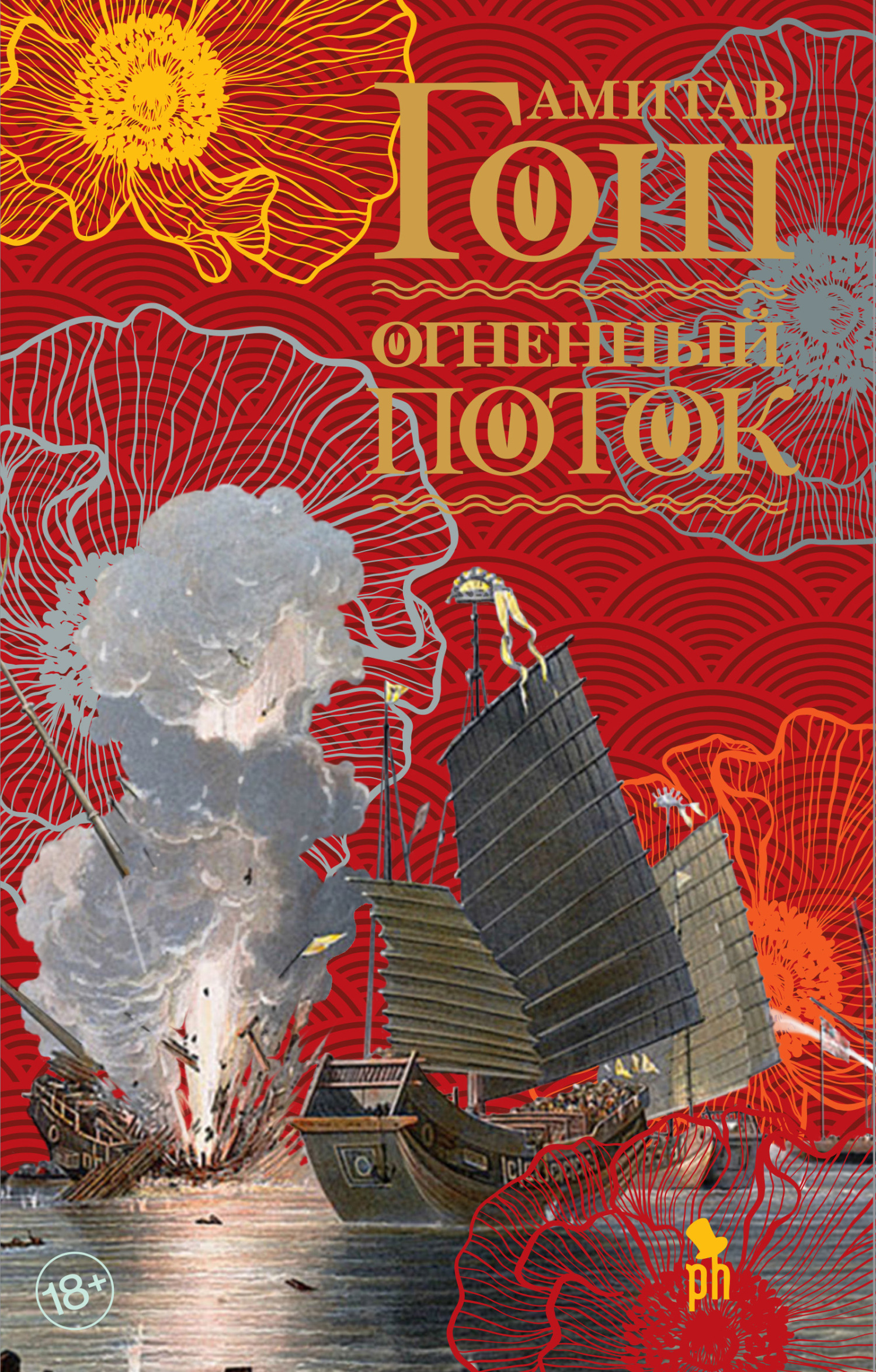это стало бы прекрасным подарком Джакве к Новому году. Я не ошибся: друг мой пришел в восторг и от всей души отблагодарил меня так необычно, что потребовать воротник обратно уже нельзя…).
И вот на моем горизонте появился А-Мед; после традиционных приветствий он сказал, что господин Чан, ненадолго вернувшийся в Кантон, желает знать, получил ли я зарисовки коллекции мистера Пенроуза. Да, уже давно, ответил я, и сгораю от нетерпения предъявить их господину Чану в любое удобное ему время. Расплывшись в улыбке, А-Мед сообщил, что «начальника» его как раз неподалеку и будет рад принять меня прямо сейчас.
— Прекрасно! — воскликнул я, сбегал к себе за рисунками, и мы вышли на улицу.
Я полагал, встреча состоится, как здесь заведено, в какой-нибудь чайной или харчевне, коих в изобилии на улице Тринадцати факторий подле городских стен. Однако А-Мед свернул к реке. Я уж подумал, мы опять сядем в лодку, но, оказалось, путь наш лежал к Шамяню!
Кажется, я уже рассказывал об этой песчаной косе, в отлив предъявляющей свои заиленные берега. Она расположена в оконечности Города чужаков, неподалеку от датской фактории, и весьма прославлена тем, что служит излюбленным причалом для аляповатых «цветочных лодок». Видимо, на одной из них и предполагалась (средь бела дня!) наша встреча с господином Чаном.
Цветочные лодки занимают свою нишу среди самых больших и, бесспорно, самых ярких судов Жемчужной реки. Вид их настолько необычен, что в любом другом месте они казались бы порождением буйной фантазии, чему способствуют павильоны, кабины, застекленные и открытые террасы, гирлянды из сотен фонариков и шелковые драпировки. На входе высятся красно-золотистые ворота, украшенные изображениями сказочных существ: извивающихся драконов, ухмыляющихся демонов и зубастых грифонов. Предназначение этих чудищ в том, чтобы оповестить всякого ступающего на борт: он входит в мир, совершенно отличный от скучной повседневной реальности. Вечерами на темной глади реки эти лодки в зареве огней и впрямь выглядят плавучим волшебным царством. Однако сейчас, при свете утреннего солнца, они казались усталыми, печальными, не столько яркими, сколько мишурными, присмиревшими и готовыми признать свое поражение в их безнадежной войне с повседневностью.
В прилив к Шамяню можно подобраться только вплавь, но когда река отступает, из-под воды, как по волшебству, появляются каменные мостки, по которым А-Мед и подвел меня к одной из огромных лодок. Высокие золоченые ворота ее были заперты, на палубе мы увидели только старуху, занятую постирушкой. Услышав окрик А-Меда, она подхватилась и распахнула скрипучие створки ворот. Мы поднялись на борт и прошли в салон, где царил беспорядок — следствие развеселой ночи. На стенах гостиной, устланной коврами и уставленной изящной резной мебелью, висели свитки с каллиграфически выполненными иероглифами и фантастическими пейзажами; окна были затворены, здесь крепко пахло табаком, благовониями и опием.
Не задерживаясь в салоне, А-Мед прошел в коридор, по обеим сторонам которого располагались каюты; двери в них были плотно закрыты, изнутри не доносилось никаких звуков, кроме храпа. Возле темной лестницы А-Мед остановился и жестом предложил мне дальше следовать одному.
Меня изрядно потряхивало, когда я опасливо поднимался по трапу, не представляя, чего ожидать. Лестница привела меня на залитую солнцем террасу, где обложенный подушками господин Чан возлежал на кушетке. Как и прежде, одет он был в китайском стиле — серый халат, черная шапочка, однако приветствовал меня исключительно в английской манере — рукопожатием и возгласом «Здорово, здорово!». Указав на стул рядом с кушеткой, господин Чан подал мне чашку с чаем и выразил сожаление по поводу столь долгого перерыва в наших встречах, виной чему были обстоятельства, заставившие его пуститься в разъезды.
Он не производит впечатления человека, склонного к светским беседам, и потому я, дождавшись паузы, сразу вручил ему иллюстрации, выполненные Эллен Пенроуз. К моему удивлению, он даже не раскрыл папку, но отложил ее в сторону, сказав, что изучит рисунки позже, а пока хотел бы переговорить на иную тему.
— К вашим услугам, — сказал я.
— До меня дошел слух, что вы состоите в близком родстве со знаменитым английским живописцем Джорджем Чиннери и сами вы художник, работающий в той же манере.
— Да, все верно, — подтвердил я, и тогда господин Чан спросил, не знакомо ли мне, случайно, одно полотно мистера Чиннери, известное как «Портрет молодой евразийской дамы».
— Разумеется, знакомо, — сказал я, что было истинной правдой, поскольку я прекрасно знаю эту картину.
Из всех папашиных работ, созданных в Китае, больше всего я люблю именно эту. Тебе известна, милая Пагли, моя давняя привычка делать копии впечатливших меня картин. К счастью, я не изменил ей и на сей раз, сделав небольшую, но, отважусь сказать, идеально соответствующую оригиналу копию. Вот и сейчас я смотрю на изображение юной дамы в просторной блузе синего шелка и широких белых брюках. В ее манере носить богатые одежды сквозит изящная небрежность. Абрис нежного лица напоминает лист сердцевидной формы, взгляд удивительно больших темных глаз одновременно ласков и тверд. Блестящие черные волосы, разделенные прямым пробором и мягкими волнами ниспадающие к вискам, украшены розовой хризантемой. Круглое окно на заднем плане создает эффект рамки внутри рамки: оно обрамляет голову дамы и предлагает вид на далекие горные вершины, затянутые туманной дымкой. Все детали интерьера — табурет под дамой, потолочная лампа с кистями, столик на длинных ножках и фарфоровый чайничек — безошибочно китайские. Оттенок кожи и высокие скулы дамы тоже явно азиатские, однако ее манера улыбаться, постановка ног, да и вся поза в целом указывают на некую долю иноземного в ней.
На мой взгляд, это одно из лучших папашиных творений, но я, как ты знаешь, далеко не всегда беспристрастный судия. Вполне возможно, моя любовь к этой картине продиктована сочувствием к модели, полукровке по имени Аделина, ибо мне известны обстоятельства ее жизни и смерти (сейчас я о них поведаю, и ты согласишься, что они не могут не тронуть даже самое черствое сердце).
Из моего рассказа ты поймешь, что мое знакомство с историей персонажа картины отнюдь не поверхностно (ушло немало времени и сил, чтобы вытрясти ее из папашиных подмастерьев), но, к счастью, мне хватило духу не сообщать о том господину Чану.
— Да, я знаю этот портрет, — сказал я. — А почему он вас интересует?
— Не могли бы вы, мистер Чиннери, сделать его копию? Я хорошо заплачу.
Я слегка замешкался, представив, как взбеленится «дядюшка», если о том проведает. Но, с другой стороны, как ему узнать, когда господин Чан совершенно неуловим, да и к тому же мои финансовые обстоятельства не позволяли пренебречь заказом.