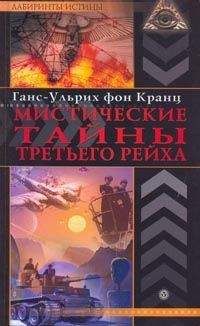— Сами виноваты. Если бы у вас осталась хоть капелька рыцарской гордости, шведов уже давно бы скинули в море. Но Паткуль тщетно десятки раз рискует жизнью, а мы приходим из Курляндии и попадаем в ловушки. Если они нам в Риге сразу не отрубят головы, то сгноят в тюрьме. Нас просто выдали.
— Мы выдали, и нас выдают. Прямо в пекло едем. У меня подозрение, не предал ли тебя этот самый корчмарь. Меня взяли из-за тех подохших мужиков — у них было распоряжение замкового суда. И какой черт дернул тебя эти письма в кармане держать?
— Да и без всяких писем… Разве ты не слыхал, как этот лапотник сразу же завопил об Атрадзене и какой-то утопленной девке?
— За утопленную девку можно откупиться, а за королевские и Паткулевы письма потребуют твою голову…
Шрадер не успел ответить. Удар грома потряс весь дом. Ослепительная молния осветила окошко с черной крестовиной оконного переплета. Сиверс разразился проклятиями.
— Ударила бы, дьявол ее разрази, и подожгла бы! А в суматохе мы, может, и сумели бы ускользнуть.
Мысль Шрадера, как пойманный воробей, билась об оконный переплет. С чего этот поляк давеча подмигивал и кивал в ту сторону? Он вскочил и поспешил к окну. Попробовал. Верхняя часть рамы подалась, скользнула наружу, в щель можно было палец просунуть. Дождь струями бил о стекло. Шрадер от волнения еле слышно выдохнул:
— Окошко вынуто… Идем!
Сверкнула молния, теперь уже в том конце дома. Узники отшатнулись в сторону. Слышался только вой ветра и плеск дождевых струй о стену. Шрадер высунул руку за окно, отвалил раму наружу, затем ухватился второй рукой, вынул раму из пазов, повернул наискось, поднял в комнату и прислонил к стене. Ветер гнал струи дождя в проем, поверх голов, заморосив водяной пылью всю комнату.
Шрадер уже ухватился было за подоконник и собрался спускаться, но вдруг передумал;
— Иди! У тебя наручники, ты один не сможешь. Уцепись здесь, перекидывай ноги, я сперва схвачу одну твою руку, потом вторую — фута на два спущу. А там внизу не больше четырех будет, это пустяки, шею не свернешь.
Сиверс медлил. Прыгать куда-то во тьму, как в темный колодец… Рассудок и подталкивал его вперед, и в то же время тянул назад. Шрадер злобно прошипел в ухо:
— Чего мешкаешь! Или хочешь, чтобы нас в лесу пришибли?
Втолкнул его на подоконник, помог перекинуть ноги, ухватил за одну руку, потом за другую, уперся коленями в стену, удерживаясь изо всех сил, медленно спустил вниз. Ноги Сиверса в поисках опоры, застучали о бревна стены.
Ян внезапно пробудился и выпрямился. Дождь лил как из ведра, но сквозь низко нависшие ветви ели пробивались лишь редкие капли. Ему послышалось, будто что-то бухнуло; он высунул голову под дождь и попытался пробуравить взглядом кромешную тьму. Далеко за корчмой сверкнула молния, при ее мгновенной вспышке он заметил что-то черное, болтающееся под окном. В два прыжка он очутился там. Показалось, будто туго набитый тяжелый мешок ухнул из окна на приставленную к стене старую бочку, и она с треском распалась. Палаш остался под елью, Ян запустил руку пониже своих колен и ухватился за мягкие волосы. Схватился второй, почувствовал под ладонью мокрые усы, но тут же с криком оторвал ее.
— Кусается, сатана!
Звякнули наручники — Ян мигом понял, с кем имеет дело. Не выпуская волос, налегая всей своей тяжестью, прижал эту голову к земле, другой рукой нащупал ворот и поволок пленника задом. Сиверс, так и не встав, скованными руками хватал воздух, уцепился за обруч рассыпавшейся бочки с тремя клепками и, как утопленник, не выпуская его, так и ехал задом по мокрой глине, напрасно упираясь ногами и всхлипывая:
— Братец… отпусти… кошель талеров!
Но Ян знай волочил его за угол корчмы, вопя что есть мочи:
— Солдаты, на помощь! Немец бежать хочет!
Когда стихла возня за углом, Шрадер высунул голову наружу, словно горностай из норы, поглядел в одну сторону и в другую. Непроглядная тьма и дождь, больше ничего. Тогда он, ухватившись за подоконник, перекинул через него ноги, повис на руках и прыгнул. Удар о невидимую землю показался страшным, в голове загудело, словно вальком хлопнули по звонкой доске, лязгнув зубами, он прикусил язык. Сверкнула молния, Шрадер прижался к стене, но все же успел оглядеться вокруг. В следующее мгновение он уже был на ногах и бросился к заросшему косогору. Мокрые кусты хлестали по лицу, ноги скользили по раскисшей глине, над головой шумело, за спиной кто-то хватал за камзол, кто-то за сапоги, обломанные концы веток царапали лицо. Со стоном он вскарабкался на четвереньках по отвесному склону, соскользнул назад, сделал крюк и вскарабкался снова. Головой упал в яму и расшиб лоб о какую-то дверь. Выкарабкался, вновь съехал шага на два, ухватился за стебли папоротника и какие-то корни и, держась за них, подтянулся кверху. Так он карабкался целую вечность, подгоняемый смертельным страхом, трясясь всем телом, охая, вскрикивая, когда что-то цеплялось за карман камзола или за голенище сапог и не пускало. Неотступно чувствовал за собою яростные глаза и ощеренную пасть. Временами припадал к какой-нибудь наполненной водой колдобине и, замирая, ожидал удара, затем полз дальше. Отупевший и потерявший соображение, даже не почувствовал, что подъем кончился, что можно встать и бежать. Но и догадавшись, не встал бы — вконец измученный, остался лежать, как до смерти загнанная лошадь, испускающая последнее дыхание.
Наконец он все же вскочил, прислушался. Тук, тук, тук… гулко звучало что-то, словно копыта мчавшегося рысью коня. Да нет! Это ведь его собственное сердце. Здесь все же ненадежно, они обязательно погонятся следом, весь лес обыщут. Избитые, изодранные ноги понесли его вперед, все тело нестерпимо болело. В темноте он с размаху ударился о толстый ствол, больно ушиб скулу, зажмурился и вытянул руки — все равно тут ничего нельзя разглядеть. Упал в яму, споткнулся о кочку, поднялся и снова ощупью двинулся дальше…
Когда Ян втянул Сиверса, сжимавшего в руках обруч с тремя клепками, в корчму, солдаты только еще поднимались, чертыхаясь. Он швырнул пленника так, что тот затылком ударился о глинобитный пол, коленом навалился на грудь, чтобы тот не мог поднять руки, ухватился за горло и так держал, не выпуская. А сам все кричал:
— Немец хотел бежать! Немец бежать хотел!
Дверь жилой половины приоткрылась, показалась корчмарка в черной, как угольный мешок, рубахе, всклокоченная, со свечой в дрожащей руке. Солдаты сгрудились вокруг, что-то выкрикивая на своем языке, спрашивая о чем-то у Яна, но он — все свое:
— Немец хотел бежать!..
Унтер-офицер опомнился первым, сердито махнул рукой и отдал своим людям приказ. Двое караульных на ступеньке у дверей сладко спали, дверь была заперта, но комната оказалась пустой. Сквозь проем окна ветер еще швырял внутрь редкие капли дождя, на пол натекла большая лужа. Сомнений не было: второй удрал.
Драгуны дважды обежали кругом корчмы, обшарили стодолу. Там лишь берггофский возчик спал, свернувшись в своей телеге, и сытые лошади топтали сено корчмаря. Выбежали на дорогу, в третий раз осмотрели место под окном, один на всякий случай выстрелил в лес, в сторону взгорка. Затем все вернулись в корчму.
Унтер-офицер схватил Яна за шиворот и поставил на ноги, — Сиверс, тяжело дыша, сразу же поднялся и сел. Швед, сжав кулаки, подступил к парню, стал ругаться на своем языке. Ян ни словечка не мог понять.
— Баран ты безголовый! Чего тащишь одного, когда тебе двух надо укараулить? Где теперь второй?
Ян лишь руками развел:
— Немец хотел бежать!
Вдруг он получил такую затрещину по левому уху, что отскочил назад и стукнулся затылком о печь еще сильнее, чем Сиверс об пол. У того на изменившемся от страха лице промелькнуло удовлетворение и что-то вроде легкой надежды — видимо, думал, что бьют за неуважительное отношение к немцу. Ян потрогал щеку и раскрыл рот: ведь поймал же, а тут еще бьют?!
Унтер-офицер никак не мог успокоиться.
— Лапотник ты этакий! Колоть тебе надо было — вот так, палашом — одного, а потом другого!.. Болван, человеческого языка не понимает!
Потом указал рукой в потолок, в конец корчмы, махнул сверху вниз, затем в лес, разжал кулак, показал пустую ладонь.
Этот язык Ян понял. Хлопнул себя по лбу с такой же силой, с какой ударился затылком о печь. Баран! Баран! Второй убежал, а ведь его-то именно он и хотел укараулить!
Уже на мосту через мельничную речушку строгий порядок пятипарной колонны верховых нарушился. Все разом ехать не решились — лошади мешали друг другу, спотыкались и сердито фыркали. Обомшелые бревна по обе стороны моста казались в вечерних сумерках спящими чудовищными змеями, от черной реки и топи тянуло запахом тины и гнили.
Офицер придержал коня и присмотрел, все ли драгуны переберутся на другую сторону благополучно. Сердито тряхнув головой, сказал толмачу: