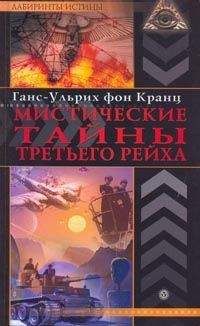«Барин» хотел знать все: как дела в имении, да и в волости. Видя, что он даже не тянется к хлысту на поясе, старик разошелся. Пересказал все события прошлой ночи и все, что было связано с ними. Сам он, правда, всего сначала не видал, но зато ему рассказали те, что там были. Где старик путал, помогал сын. Всадник только слушал, время от времени вскидывая руку и подкручивая усики.
— Значит, тот — как ты сказал? — кузнец Мартынь опять вышел из лесу?
— Как же, как же, барин! Коли эстонец в лесу, так он уж может выйти оттуда. Только уж Бриедисова Майя ему так и не досталась.
— А старый кузнец с Дартой живы?
— Оба живы, чего им делается! Только Лавиза из имения порешила себя да у Плетюгана обе ноги перебиты.
Парень внезапно вытаращил глаза и приоткрыл рот. Но не успел ничего сказать. Незнакомец, заметив, что он хочет о чем-то спросить, тотчас повернулся и пошел назад. Округлившимися глазами косари глядели, как десять солдат вывели на опушку лошадей, взобрались в седла и выехали на дорогу. Тот, что разговаривал с ними, — впереди, рядом с офицером, пригнувшись к нему и разводя руками, что-то рассказывал.
Исчезли они в лесу, направляясь к имению, довольно долго еще было слышно, как лошади хлюпают по лужам. Старик передохнул и показал головой.
— Видал, какая штука! Войско… не к добру это.
Но сын оживился.
— За эстонцем едут, вот увидишь! Всыплют по первое число сатане этакому.
— Не худо бы, да где ж они теперь его поймают.
— Поймают, вот увидишь! Куда он пешком денется?
Принялись косить, но после десятка взмахов парень опять остановился.
— А знаешь, кто это был? Юрис Атауга, вот кто.
— Дурной! Этакий барин, сабля на боку!..
— Ну и что… А только Юрис Атауга всегда, как говорит, один глаз щурит, и этот точь-в-точь этак же.
— Не мели попусту; что я Юриса Атаугу не знавал! Юрис был гладкий, что яйцо, а у этого усы и борода.
Довод был веский. Парень зажал окосье под мышкой и вытащил из кармана штанов брусок. Принялся точить косу, но сам все время смотрел только в ту сторону, куда ускакали драгуны.
Войдя в замок, Курт наткнулся на кого-то у лестницы. Только хорошенько вглядевшись, узнал его.
— И вы здесь, пан Крашевский?
Тот криво ухмыльнулся, прислонясь к стене.
— Я вечно там, где бы мне не надо быть.
Курт сразу же забыл о нем, — у самого какой-то хаос и тяжесть в голове.
Зал выглядел так, как мог выглядеть после полного разгрома. Окна выбиты. Столы опрокинуты, на полу разбитая посуда, остатки еды, пивные и винные лужи. Ветки и гирлянды из цветов раскиданы по всему помещению, кресла со сломанными ножками свалены в одну кучу. Дикари, дикари!.. Так-то они встречают своего барона, который приехал с самыми лучшими намерениями, с открытой душой и с горячим желанием заботиться о них, как о своих детях. Дети… Псы, а не дети! И впрямь пару мешков с кнутами из Неметчины надо на них, двух таких эстонцев надо…
Руки сжались в кулаки, лишь с трудом он овладел собой. Поставил какую-то скамью, рухнул на нее и долгое время сидел, сложив руки на коленях, свесив голову. Когда вновь поднял глаза, перед ним стоял Крашевский. Видимо, он все еще был не в себе, но уже не ухмылялся, на лице его светилась сочувственная улыбка.
— Не так-то легко с реформами!
Курт непонимающе поглядел на него.
— Вы все это видели?
— Больше мне нечего было делать. Здесь, как видите, последняя кружка опрокинута. Но прошедшую ночь я не только видел, а чисто случайно и даже против своей воли сам был причастен к тому разгрому, что здесь творился. Такие представления зрителей не терпят, здесь все должны участвовать в игре. Вы на дворе не заметили моей шапки?
— Пан Крашевский, вы довольно пространно рассказывали об этих людях, но мне кажется, что я все-таки еще многого не понимаю. Ладно, Холгрен был мошенник и изверг, в конце концов, оказывается, даже и убийца. Я понимаю, за что они собирались его убить и сожгли его дом. Но ведь меня же они еще не видели и все же верят чудовищной лжи, нападают на меня в лесу, унижают, как никто еще в мире не осмеливался, даже грозят убить. Только благодаря счастливому случаю я не лежу теперь где-нибудь в болоте с клинком в груди или на дне озера с чурбаном на шее.
— И я скажу, что это счастливый случай. Но вы судите поспешно и потому опрометчиво. Разве вы не видите, что они нападают не на вас, а на все ваше сословие? Вам бы пришлось быть в ответе за злодейства пяти поколений Брюммеров. А вы думаете, за ними мало грехов накопилось?
— Этот человек родился в тот же год и день, что и я…
— Вполне может быть. Возможно, что он хотел отомстить за поруганную невесту тому, кого считал виноватым. Но так же возможно и то — и я в этом почти не сомневаюсь, — что его гнев разожгла давняя память об утонувшей в мельничной запруде дочери мельника. И своего отца — кузнеца Марциса, искалеченного вашим отцом, — он вовсе не забыл! Все незабытое и забытое гнало его в лес подкараулить вас.
— Что вы говорите! Если мы все будем взыскивать друг на друге за грехи отцов, то что же тогда получится? Что это будет за жизнь? Это же будет сущий ад!
— Кто-то из иностранцев прямо так и сказал: жизнь латышского крепостного — это ад. Вы, верно, мало слышали их сказки. Волк у них ничем не отличается от помещика.
— Проклятый народ!
— Вы находите? Ну, вот видите, Эйнгорн и остальные все же правы. Нечто похожее я уже говорил вам в Атрадзене.
— Я не верил ни Эйнгорну, ни вам, но теперь, кажется, начинаю колебаться. Допустим, что они не так ненавидят меня самого, как моих предков и все наше сословие. Но что же им сделала эта комната? Разве же это не чисто дикарская, слепая жажда разрушения, та самая, из-за которой некогда пали прекрасные Афины и вечный Рим?
— Оставим пока Рим с его вечностью, вы видите все же, насколько она была непродолжительной. Вы думаете, они здесь били посуду и опрокидывали столы? Нет, дорогой мой, они разрушали имение. Имение — заметьте себе это! Гадючье гнездо, которое обходит каждый, кого силком туда не тащат. Имение — в самом названии которого заключено все их рабство и муки. Взгляните на эту груду в углу — если там не подкладывали огня, то я никогда не видал, как разводят костер. К счастью, они выпили лишнее и не сообразили, что сырая береза не так-то быстро разгорается. Иначе бы вы не сидели здесь. Но по крайней мере в одном вы можете быть спокойны — я убежден, что это не было направлено лично против вас. Имение они хотели сжечь — с его черным прошлым, с подвалами, где крючья в потолках и кольца на стенах.
Курт снова разбередил недавние переживания, как ноющую, кровоточащую рану.
— Мне кажется, я поступил правильно, не став выслушивать их жалобы. Разве в них можно разобраться? Они бы только сбили и запутали меня.
— Бесповоротно и окончательно. Начали бы с управляющего и приказчика, а закончили бы друг другом. Как щепку, завертели бы в омуте, пока вы совсем не потеряли бы голову. Холгрен знал, что делал, когда запретил им соваться к вам с жалобами и просьбами.
— Не напоминайте мне об этом проклятом эстонце! Или, может быть, он был вашим приятелем?
— Мои приятели — старики из лаубернской богадельни. Тех, кто мне изредка подносит стакан вина, я еще не считаю близкими. Пусть они лучше думают, что я их должник.
— С чего же мне начинать здесь? Дайте совет, что же мне делать?
— Насколько помню, у вас был определенный замысел, начните с него. Попробуйте хозяйничать лучше шведов.
— И вы верите, что удастся?
— Нет, не верю. И даже наоборот, я убежден, что из этого ровно ничего не получится.
— И все же советуете. Странный вы человек, пан Крашевский.
— А что же еще вам посоветовать? Ведь назад в Виттенберг вы не захотите ехать?
— Нет, этого я уже не могу.
— И распоряжаться в имении, как ваш отец и дед, тоже нет?
— Нет, этого я не хочу. Только не это!
— Ну, вот видите, что же вам еще остается? Поступайте так, как шведы поступают, а то и получше их.
— Вы большой друг шведов, как я погляжу.
— Не самих шведов, скорее уж я друг мужиков. Но шведское устройство лучше, чем смогли придумать самые великие дворянские гуманисты. Лучше по сравнению с тем, что собираются учредить новые идеалисты, которые совершенно напрасно суют голову в петлю.
— Уж не заявились ли вы шпионить и предавать?
— Господин фон Брюммер, я не хочу отбивать хлеб кое у кого из вашей же среды. Хочу только продлить, елико возможно, свое бренное существование в этом самом поганом из миров, потому что здесь все же лучше, чем в райских садах. И умереть в богадельне на своем сеннике, хотя здесь нет даже патера, который похоронил бы меня, как положено истинному католику. Кто вы и почему приехали сюда, это мне стало ясно, как только я впервые встретил вас. Нет, не бойтесь, я для вас так же безвреден, как моя старая шапка, которая, видимо, валяется истерзанная где-нибудь на дворе.