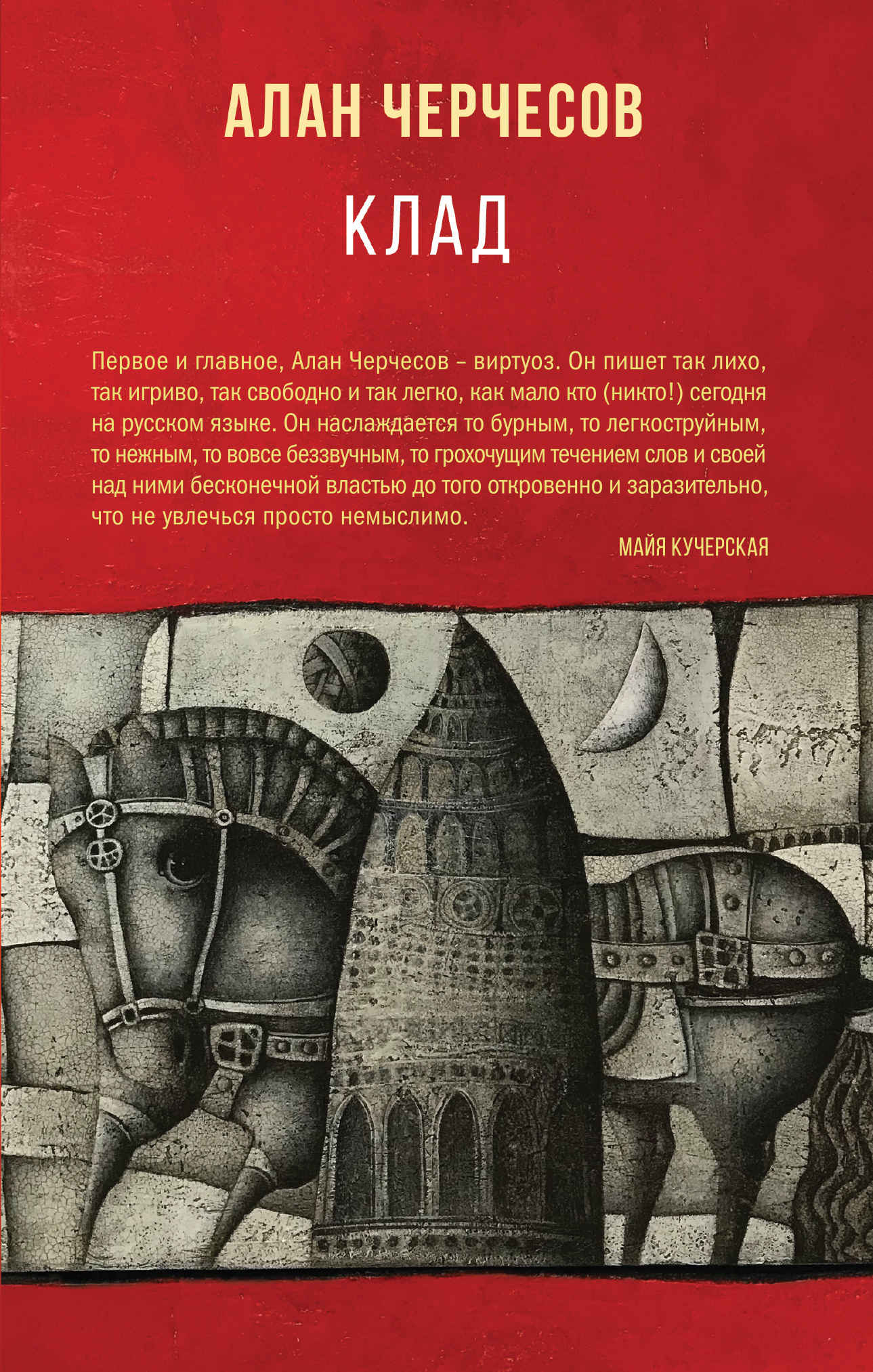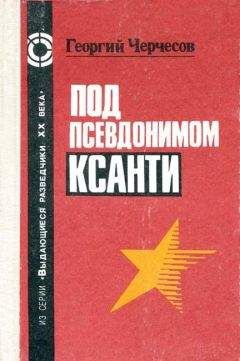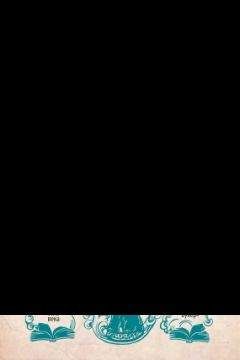мол, судьбину балбесом встречать. Знаю я, как тебя уцелеть от боев. И ведет меня в двор, там пинает в сарай. Управляет мне в угол: чурбан подбери! Сам топорик поднял и – под мышку, в другой уж ракийку заносит. Ну так, думаю, славное дело: хряпнем с папкой за дружбу и на приятельстве гладком расстанемся. Ономнясь побузили, в загру́дки толкались. Чтобы строже меня провожать, отравляли себе напоследок тоску и симпатии… Однако ж с чего он затеял укрывом в сарае туши́ться? Не любезней ль проститься застольем порядочным? Вижу, вынул платок, из бутылки полил и обтирает топорик до сумрачных высверков. Тут мне стало, конечно, невесело. И зачем, говорю, нам порубный с собой инструмент? Не меня ли кромсать ты в отцовских бездушьях наметился? А папаня велит: ставь, мол, наземь чурбан да ложи пятерню, доскональней топырку выкладывай. Не желаю, Запрянка, оттяпать что лишнее. «Дак а разве в ней лишнее где-нибудь есть?» – «Пара пальцев всего. Зато ласковей выживешь: при жене да при матери бури промешкаешь». – «Возражаю я, батя. Мне руку корнать неугодно. Дотоль неконфортно, что даже изнанками муторно. Лучше я абы как повоюю, но с ро́дными точными пальцами». – «Трусишь, что ли, таких пустяков? Ну и где в тебе спрятались ратные доблести?» – «Трушу, батя, нутром трепыхаюсь. Топор твой меня отвращает до тошностей». – «А под пули вставать – это кто за тебя разогнется уракать в атаку? Вот, Запрянка, и то-то!» Устыжаю его: «Чем ехидством глаза разъедать, ты бы лучше меня на отвагу напил да и речью высокой, как прочие предки, напутствовал». – «Вот срублю тебе выход, и выпьем! Лапу, сына, клади, не мухлюй. Жилы мне не тяни за худющие тонкости. Операция наша – чихня: не успеешь сморгнуть, уж фитюльки отчиканы. Будешь мне благодарный еще. Подставляйся же ровненько, ну!». – «А маманя про наши сечения сведуща?» – «Очень даже сама и зачинщица». – «И Дафинка участьем замешана?» – «Дак а как без нее?» Поглядел я на пальцы свои, старшина, и отчаянье кротенько думаю: коли впрямь эти двое мне ро́сты в спасенье пожертвуют, может, ну их тады на помойку не нашей войны? Подложил я чурбан, чтобы плахой потверже приселся, пястку сверху наладил, отжал безымянный с мизинцем, зажмурился. Ты бы резче рубил, говорю, я вторичных попыток без драки воспрянуть не выдюжу. Отвернулся к стене и терплю. Потом – бац! Слышу, космос в осколки порушился. Боли нет, только громко уж как-то попадало. Открываю глаза – вот папаня лежит, вот топор, вот рука на чурбане, притом с неотнятыми пальцами, а с дверей надвигается тень: дядя Начо с поленом, как ангел господень, является. Зашатался я счастьем и брякаюсь в ноги к спасителю. Тот кипнёю фырчит и вопросы взволнованно тпрукает: мол, почто этот изверг тебя под топор наклонил? Сам за шкирки меня подцепил и огрызным мизинцем в лобешник вонзается: чем ты, парень, однако, негодности думаешь? И каков твой прискорбный родитель, коль готовый единое чадо свое обчекрыжить прожорнее хряка, того, что на мне поглодал карапуза? Топор подхватил, захрустел им в капусты и, сунув мне тряпку, опять на отца указует: зашпаклюй, мол, невеже потылицу да липучие крови за ним прибери. Взял с урона бутылку с ракией и вышел.
На том и сломалось мое дезертирство. Пришлось мне наутро идти на войну.
Батя тоже за мной наверстался, но уже не солдатом – подкупщиком… Верно, Людмилчо: начальство умаслить напыжился. Помню, рядом с колонной качался в седле и шапчонкой некрепкой к щетинам сползал, весь серьезный и очень смешной, оттого что помимо шапчонки огромный фингал разъезжал: дядя Начо его как с задов саданул, так он мордой на обух и грохнулся… Я ему: ты куда же в раскраске такой? А он мне моргает сердито: тебя, обормота, назад выдирать из побоища.
Все обстряпал, покась в карантинах сидели. А построились ротой приписки узнать, объявляют приказ: Божидаров Запрян Божидаров [41]! Равняйсь поваренком на кухню. И под гимны и марши отправили транспортом в Грецию – куковать у котлов тягомотины да месить черпаком оккупантские лени.
На эгейских своих экспедициях проваландались мы полунемцами, полуподстражными. За все мои службы ни разу курок не нажал – ни врага не пулял, ни лесное навскидку животное. Вколотили столбы по периметру, очертились по ним ограждением, околючились катанкой и посменно блюли недотрогость свою от войны. Осторожная, никлая жизнь! Будто сплошь из спросонков составлена.
Однако случались нам встряски и там. Кто, к примеру, со скуки в бравадах забудется, глядь, того из-под нас и нехрабро порезали. Выпьет хлопец лишку́, затеснится растянутым стойбищем, пораздвинет в ограде прореху, сгуляет небрежно за проволоки, сядет в травку, приладится волю сквозь дым чубука подышать, залюбуется дорого звездами – тут его партизаны за грезы и выудят. Кляпом в глотку накормят, башкою – в мешок и к реке понесут. А наутро шныряем по берегу дутое тело, покуда его не найдем в камышах без буркал и кишок: те еще ночью ушли карасям на поклевку. Рыбу людям иной раз кухаришь, а требуют, знаешь ли, постную кашу.
Днем-то с деревнями больше дружили. Навестишься к кому на привет, угостят и винишком, и узо [42], и прямо из печки поджарым попотчуют хлебушком, настрогают салатку, сухим табачком одарят, взамен подсобишь им крестьянские плевые выручки – вот нам все про себя и довольные. Грек – он натурой такой: нахал и паршивец, при этом транжира, раздольный душой, хотя исподлобно прохвост и корыстник, почти мародер. Столковались мы с ними знакомство не грубо водить, но ухо держали востро, в одиночку туда не сближались. Западет кто на местную бабу – так мы недотепу в охапки и к нарам кудахтать привяжем. А кого из салаг проморгаем, того партизаны лишали достоинства. Подбросят назад без штанов, напоказ причиндалы сковырнуты. До убийства нарочно не режут, а лишь страхолюдно его извращают нам всем в назидание. Издевательством этим солдат угнетали весьма. Не война, а сплошное мучение чувств!
Пару раз на побывку домой отпускали. В Дюстабане свои злоключения: приезжаю, а дядюшка Начо прибитый совсем в бессознанье. Кряхтит в тюфяках, сам замотанный в шкуры овечьи и рожей, как негр, карамаз. Кто ж красу его пышно так выпучил, а? Дак свои же ребята ему марафет освежали, вздыхает махоркой отец. Понеже путёвых фигур всех огульно в пехоту призвали, согнали немчуры дорогу мостить малолеток. Завязаться от Смоляна [43] к самой Кавале [44] придумали. Под инженерные нужды изъяли с народа волов и повозки. Почитай, каждый двор на рога ободрали. Атанас по-немому на них заартачился