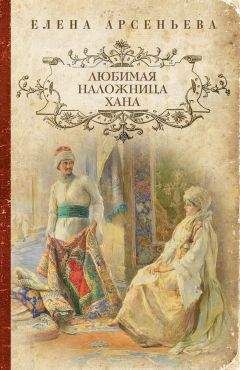Девушка протяжно вздохнула, омякла вся, потеряла напрягу и явственно молвила: «Кирюшка Салмин, проклятый мучитель мой, изыди вон». И с этими словами изо рта Олисавы вышел пар. И уснула несчастная ровно, безмятежно, как бы под крылом у отца-матери, ровно бы сам Никола – поморский угодник охранял ее покой. А Феодору-то куда деваться? Он не решится перешагнуть очерченный круг, чтобы не подпасть в полон не наших. Нейдет из памяти воп болезной: «Минеюшко, любимый. Жених ты мой во Христе!» Пусть чары, коби, дешева заманка в беспамятных словах, но ведь и всеми молитвами мира не выскресть в сию минуту этого признания, не выжечь и каленой кочергою, коей черти в аду мешают для нечистых кипящую смолу.
«Вставай, прокудница, – воззвал инок из круга. – Ишь омокла до нитки. Простынешь сквозь, кому сгодишься? – А голос пересыхал, тончел и с томленьем, никогда не знаемым прежде, едва вынимался из нутра. – Разумей, чадо детородное. Блудная пища, питие да ума недостаток рождают в человеке похотение. Ишь выскочила, как из Потьмы, да в середку леса на пир. Откуль расповадилась, такие похмычки взяла, чтобы без венца да к мужику, к иноку на приваду и на посмех. Восстань и поди, откуль явилась...»
А незваная гостья лежит, голубея лицом, омертвела пластом и не вем – дышит, нет? Господь, сурово и праведно испытываешь ты меня, скрутил в жмень сердце мое, а оно не каменная варака, не камень-баклыш, пока живое и шеволится, как вода на перекате. Охте мне, – перекрестился Феодор, – сгинет девочонка ни за понюшку, Ивану Семеновичу великие слезы. Ведь и не знает, поди, мил человек, что ко мне сбегла, проказа. А кабыть девка-то и слышит меня да волынит, прокуда, дует в свою трубу? Ну-ко, ну-ко?
И невольно выступил из круга, приклонил ухо, но услыхал лишь слабое, умирающее дыхание.
«Эй-эй, слышь, злыдня? Пришла в себя иль нет?»
И снова не дождался ответа, а помолясь, стал раздевать, растелешивать Олисаву; стянул пониток, набрякший от воды, и сарафан, и рубаху, и две нижние набойные юбки, да исподницу холщовую. Раздевал сгруба, но и с тем неожиданным проворством, к коему приневоливает нужда. И приговаривал, успокаивая себя: «И откуль в тебе такое бесстудство к Богу, презорство и бесстрашие? Кабыть и не пьяна, а яко кошка котов ищешь, смерть забывше. И что Любим про то скажет, когда узнает? Я хоть видом и смирен, но до Бога силен, и не тебе меня блазнить». Инок разоболок Олисаву, окинул заневестившсе тело сторонним взглядом, безо всякой приценки натянул ветхую одеяльницу, второпях прихваченную из дому (шерсть-то оленная давно повылезла), и вдруг случайно споткнулся ладонью о наспевший пшеничный каравашек тонкого помола; и не сдержался, восхитился беззащитной белизной груди с назревшей клюквиной соска и нежно огладил, задержал в горсти, как живого цыплака. И почуял Феодор сквозь упругую мякоть титьки трепетный зов чужого податливого сердца. И потерявши себя, как бы в забытьи, коснулся монах девичьих, вроде бы каменных губ, и губы готовно отозвались, раскрылись, как бархатные лепестки. Ах ты, обманщица, ах ты, суторщица! Вымостила, коварная, себе дорогу в самую монашью душу и выстелила там нору... И устрашился Феодор, что пал так низко и нынче очутился у края незамолимого греха, а может, укатился и в самую геенну огненную. Ведь мысленно согрешить – это похуже явного блуда. Столько лет суровил себя, все плотское изжил, изгнал прочь, вытончел и иссушился костьми, как ивовый прут на юру, как изветренный ягнячий мосол. И на тебе! Яро поддался бесу и вознепщевал при первом же случае самого Бога предати.
«Эй-эй, вставай, разорительница, блядка сатанина! – вскричал монах в гневе. – Не иначе сам дьявол тебя наслал. Жена год проживет – рог наживет; два года проживет – второй рог наживет; а на третий год мужа бодать будет. А ты, юница, до свадьбы уже с двумя рогами!»
Феодор выполз из хижи и бросился в лес. И три дня не навещал своего скита, ночуя под еловым выворотнем. Он немилосердно вымерз весь и в стылости своей, остамелости, запаршивленности вдруг сыскал усладу. И решился инок умереть голодной смертью, чтобы немилосердной мукой искупить грех...
В четвертое утро, измозгший и бессильный, инок вернулся к келье. Возле лаза его ждала коробейка с хлебами, покрытая холщовой ширинкой, расшитой девичьей рукою. Но Феодор не притронулся к милостыньке. Он запер дверцу на засов и возлег на свою позабытую постелю, на которой уже заселились лесные мураши, как на смертный одр. И слава Богу, слава Богу, мурашам надолго хватит поеди, умильно подумал Феодор о себе, как о покойнике; и не взялась его плоть тоскою от черствой мысли. Давно сам попросился на подвиг, все волынил, а тут подвинуло. Иль взаболь было струсил, как каженик под секирою палача? Блудни ты, блудня, куда хуже египетской девки... Феодор поставил иконку Пантелеймона-целителя себе на грудь, запел псалмы и так забылся, уже не гадая проснуться.
...Не вечность ли прошла? Он отворял глаза и видел смоляную темь, пронизанную мерцающими оранжевыми кругами; иногда светился в продухе шелестящий ровный снег; он падал с кружением, как хлопчатая бумага, коей набивают тюфаки; в иное время с-под крыши наискось падал солнечный луч, обнаруживал убогое житье и усыпающего печальника. Оказывается, умирать было хорошо, плоть стерпелась; и без того не балованная прелестями, иссохлая, как пустой бараний рог, она сейчас будто гудела вся от небесной музыки, заполнившей всякую жилку и мосолик. Инок стал навроде скрыпки с туго натянутыми волосяными струнами...
Порой кто-то пехался в дверку, иной день стучались, пытались сорвать запор, просили откликнуться. Но Феодор затворил уста, ибо всякое слово стало лишним. Грозились приставом, епитимьей; де, самому налагать на себя руки – непростимый грех, даже по-человечески не зароют, а сволокут за слободку к Инькову ручью и закопают у болота, как падаль. Однажды, это уже далеко после Покрова, по зимнему первопутку с провожатыми прибрела Улита; она скреблась у дверки, плакала и умоляла пустить к постели одного словечушки ради, просила простить, коли нагрешила в чем беспути, рыдала: «Ой, на муки я тебя, сыночек, родила. Проклятая твоя мати. Богом заклянутая». Но Феодор не отозвался и на ее зовы. Он, наверное, уже умер, ибо материн голос с родимой земли подымался по солнечному лучу. Но никто из слобожан так и не решился взломать запоры в келье и взять грех на себя; к тому склонились сообща, уговорив и Улиту, что днями Созонт вернется с промысла и сам приберет упокойника. И пошли прочь, помолившись перед келейкой затворника.
...А когда душа решила расстаться с телом, монаху Феодору привиделось, как утопает он в тягучей болотине за Иньковым ручьем, куда сволакивают зарывать опившихся и утоплых: коричневая торфяная каша уже полезла в глотку, забивая гортань, и тут явился не вем откуда высокий монах в черном клобуке и в мантии, с серебряной струйчатой бородою, в темно-синем зипуне, подпоясанный широким ремнем; ступая по бездонным чарусам, яко по суху, он приблизился к погибающему и выдернул из тряса за долгое волосье безо всякой натуги, как белорыбицу из мережки; и еще не опомнился Феодор, как по воздусям отстранился монах на сухое веретье, на взгорбышек, поросший можжевелом, а в руках у него оказалось дитя, запеленатое в меховой кошуль. И приподнявши ребенка над головою, неведомый спаситель воскликнул: «Погоди помирать, Феодор! Не настало еще твое время! Сам Господь дал тебе сына!»
Что за вещий сон? что за ангела обнимал неведомый монасе саженного роста в вязаной скуфье с воскрыльями и в мантии со скрижалями? И воскликнул тот старец, вздымая ребенка: «Феодор, это твой сын!» Что это: дух мой воплощенный, не успев воспарить к Господину моему, уже нашел пристанище? Иль учение мое облеклось в плоть, чтобы пойти на Русь? Но возглашено свыше: не пришло, Феодор, время твое умирать. И разлепил очи инок, разодрал уже склеившиеся вежды, напряг студенистые, уже покрытые могильным мраком зеницы и облобызал иконку Пантелеймона-целителя. Хотел ноги в коленках согнуть, чтобы подняться, и не мог совладать с мощами. Но с лежака свалился на землю и долго приходил в себя. И только через ломоту в костях понял наконец, что жив. Два дня разламывался, пока-то вылез на волю, сварил ушного и похлебал горячей юшки. Казанская уже стояла на дворе, снег выпал по щиколотку, и первые годящие морозы запечатали землю. Вокруг келейки все выброжено диким зверем: знать, поджидали монашьей смерти; лиса оследилась у самой дверки в хижу.
Поначалу ознобно было бродить босым: плюсны заколеют, стучат, как деревянные баклуши, от стыни аж сердце щемит до судорог, и всякий ледяной катых иль мерзлый сук язвят ступни больнее каленого железа. Заползет Феодор в зимовейку, унимая озноб, и давай возле каменицы жамкать посиневшие ноги, пока-то отойдут, зальются краской, и тягучее нытье всползет выше голеней и шулняток, до самой груди и там свернется ужом. Всполошится Феодор, примется казнить себя: для чего наобещался Господу, червь земляной? И помереть не могу, и в юроды не гожуся. Раздевулье, а не человек, масть пропащая. Заплачет инок, воспоет псалм Господу сквозь слезы – и отмякнет тоскующая плоть. Скоро ступни почернели, кожа полезла лафтаками, потом зароговела. Ко всему может притерпеться смиренный русский человек. В Дмитриеву субботу понял инок, что пора покидать келью. Сам Христос позвал его идти из лесу прочь, нести слово. Вот и дитя выказал...