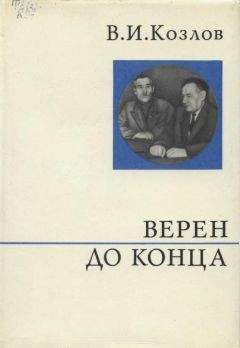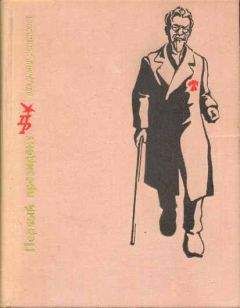В толпе послышался смех.
— Керенский опять всех на войну толкает. Что же это выходит? Царя свергли, а царский договор со всеми французскими Пуанкаре и подобными держим? Вот нам товарищ из Полесья объяснил насчет колоний и прочего. Нам с вами, что ли, ими владать? Господам миллионщикам, разным магнатам, Потоцким, радзивиллам, цебржинским. Они как сидели у нас вот тут, — литейщик хлопнул себя по черной, прокопченной шее, — так и сидят. А попы кадилом мотают: «Идите защищать веру и отечество». Что же изменилось? Что?!
Литейщик будто спрашивал у собравшихся. И в ответ посыпались громкие голоса:
— Хватит лить кровь. Долой войну!
— О трудовых людях пора подумать!
Поднялся шум, гам, над толпой выросли десятки, сотни рук, захлопали оратору, он хотел что-то еще добавить, но лишь махнул темной от въевшейся литейной пыли и грязи рукой и спрыгнул с самодельной трибуны.
И опять звучали речи о воплощении многовековой мечты тружеников: землю без выкупа — тем, кто ее обрабатывает, кто из года в год поливает ее своим потом; фабрики — тем, кто стоит у станков и поэтому является их подлинным хозяином. Не только взрослые рабочие, но и мы, подростки, с особым подъемом, воодушевлением слушали требования большевиков о переходе на восьмичасовой рабочий день без уменьшения оклада. Сверхурочную работу — лишь с согласия самих металлистов, путейцев, строителей и за повышенную плату.
Под крики «ура» и громкие аплодисменты были избраны посланцы в Жлобинский Совет рабочих и солдатских депутатов. Присутствовавшим тут же раздавали «Известия Минского Совета» (как я узнал позже, их редактировал М. Фрунзе), воззвания большевиков Полесья, листовки.
В стороне маленькой кучкой жалось встревоженное железнодорожное начальство в своих черных добротных пальто, в шапках с кокардами, с начищенными до блеска пуговицами. Вот когда я впервые почувствовал силу и власть организованных рабочих, мощь народа, объединенного единой идеей! Ведь все эти начальники, мастера не всегда кланяются в ответ. А сейчас стоят смирненько, словно воды в рот набрали.
Рядом с ними растерянно топчутся полицейские, чубатые казаки. Недалеко от нас в Могилеве была ставка верховного командования, и у нас скопилось много воинских и жандармских чинов.
С этого времени бурные митинги на нашей станции не прекращались, и я и мои товарищи и дневали и ночевали там. Все для нас было ново, интересно, близко сердцу, хотя и не все понятно.
Вскоре на Жлобинском узле был введен восьмичасовой рабочий день и создан профсоюз железнодорожников. В члены его немедленно с гордостью вступили я и все мои дружки.
На одном из первых собраний рабочие узнали о пуске поездов местного назначения, как у нас их называли, «делегатских».
— Жлобинский Совет депутатов, — говорил молодой путеец, — принял решение, значит, насчет облегчения рабочему человеку. После смены-то вон как все устают, а тут тащись по непогоде за десятки верст домой. А теперь как шабаш, будут ходить по нескольку вагонов в сторону Бобруйска от Жлобина до Красного Берега. И в сторону Гомеля от Жлобина до Салтановки. Билетов не брать… бесплатно.
Теперь мы, рабочие, по утрам не месили грязь. «Делегатский» шел медленно, останавливаясь у переездов, у деревень и подбирая всех рабочих, строителей, путейцев. После работы этот же состав переполненным выходил из Жлобина. У Новиков, у Заградья и Малевичей из трех его вагонов вылезала добрая половина пассажиров. Черные, замасленные, но веселые, добродушные. Обычно люди сидели не только на подножках, но и на паровозе с обеих сторон котла. Все были очень довольны, и окрестные деревни без конца обсуждали это знаменательное событие. Вот и наглядная забота народной власти о трудовом человеке! Небось ни царское правительство, ни Временное о наших удобствах не думало.
Короткий состав «делегатского» поезда водил машинист Макар Осмоловский. Проезжая мимо своей родной деревни Малевичи, он непременно давал несколько резких, протяжных паровозных гудков, этим приветствуя односельчан и старика отца, жившего в небольшом домике у болота. Помню, я остро завидовал Осмоловскому: вот бы и мне когда-нибудь огласить протяжным гудком родное Заградье!
Все новости, которые я узнавал в Жлобине, — а в ту пору чуть ли не каждый день приносил новость — я передавал дома. Отец мой словно помолодел, еще аккуратнее брился, подстригал усы и ходил подтянутый, веселый.
— Дождались и мы красных деньков, — говорил он, сидя с мужиками на завалинке. — Царь ни земли не дал, ни свободы. Керенский наговорил с три короба, а толку чуть. Видать, только Ленин да свои рабочие Советы заступятся за нашего брата. Если сейчас сами за них не подымемся стеной, вовек не видать нам хорошей жизни.
В окрестные деревни из разных мест заглядывали новые люди. Из Петрограда на побывку приехали два наших односельчанина — матросы с крейсера «Аврора» Алексей Горенков и Павел Сидоркин. С их помощью в апреле в Заградье, Малевичах, Новиках и других деревнях были созданы крестьянские комитеты.
Председателем комитета в Заградье выбрали моего отца Ивана Трофимовича Козлова. В хате нашей сразу стало шумно от людей. Хоть отец и работал на железной дороге, он никогда не отрывался от земли и близко к сердцу принимал все деревенские дела. Он тут же поставил вопрос на комитете — предоставить крестьянам выпас. Мужики стали выгонять свой скот на помещичий луг и сенокосы, что кольцом опоясывали скудные крестьянские наделы наших деревень.
— Теперь хоть немного вздохнуть можно, — говорили довольные хлебопашцы, — Не будет сердце болеть, глядючи на голодную скотину. Спасибо комитету.
Однако управляющий поместьем и мужики побогаче были недовольны таким решением, они потребовали, чтобы комитет вернул выпасы.
— Самоуправничать голота вздумала? Власть такого не допустит. Все Ивашка Козлов мутит. Рано этот «луговик» возрадовался, морду поднял. Главная-то косточка в Расейской державе мы, хозяева. От нас беднота кормится. И с рук комитетчикам это не сойдет. Вот уж попляшут плети кое у кого по спине.
Дошли эти слухи и до отца. Он сплюнул, зло, едко сказал:
— Припекло «благодетелей». Обидно пану управляющему, попу и богатеям: нельзя, как раньше, драть с мужика сразу три шкуры. Только прошло то времечко, нас не запугаешь.
И этим же летом крестьянский комитет захватил часть помещичьих лугов, разделил их на делянки по душам. Мужики и бабы скосили сено и перевезли в свои дворы. Так же свободно стали они заготавливать и дрова на топку в панском лесу, а кто и бревна на новую хату.
Вслед за железнодорожными рабочими, крестьянской беднотой потянулось и большинство середняков Заградья: сено, строевой лес, дрова нужны были всем. Засвистели косы на лугах Цебржинского, застучали топоры в лесу.
Теперь народ с жадностью смотрел на необъятные помещичьи посевы, политые крестьянским потом. Однако захватить их пока не решались: мешали ставленники Временного правительства, эсеры, прочно окопавшиеся в уездных органах Рогачева. Мешал этому и приказ командующего Западным фронтом, изданный в июле 1917 года и запрещавший «экспроприацию движимого и недвижимого имущества». Мешали провокационные слушки, пущенные кулаками, церковниками к поднявшими голову черносотенцами.
— Учредительное собрание разберется в земельном вопросе, — твердили они. — Сейчас главное — война до победы!
А в стране шло великое брожение. Старый революционер котельщик Карпович разъяснял рабочим и солдатам директивы, получаемые через Полесский комитет РСДРП(б) из Питера. Среди них были такие, которые особенно близко касались Белоруссии, — к примеру, наказ силой изолировать от фронта ставку генерала Духонина в Могилеве, где находился центр офицерского заговора, и во что бы то ни стало задержать эшелон генерала Лавра Корнилова, направлявшийся в Петроград на подавление революции.
На Жлобинском железнодорожном узле, по примеру Гомеля, возник комитет революционной охраны. Рабочие паровозного и вагонного депо соорудили нечто вроде бронепоезда. В прицепленных к нему вагонах-углярках прорезали отверстия для пулеметов, а стены изнутри выложили мешками с песком. Не только мы, подростки, но и взрослые рабочие с гордостью и уважением смотрели на эту своеобразную движущуюся крепость, самодельный блиндированный поезд. Многие рабочие обзавелись винтовками, револьверами, боеприпасами. Их кто находил, кто выменивал.
— Видать, большая каша заваривается, — вслух рассуждали транспортники.
Прежде на нас всегда смотрели как на рабочие руки, а теперь мы становились и военной силой. Все понимали: если ударит грозный час, трудовому народу придется грудью встать за свое кровное дело.
Все мои товарищи, и я в том числе, рвались на этот поезд. Как мы мечтали занять место у его амбразуры! Конечно, мы понимали, что нас не возьмут: маловаты. Однако нашлось и нам дело. Члены комитета в ответ на нашу просьбу о зачислении в рабочую дружину сказали: