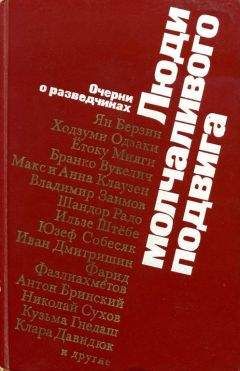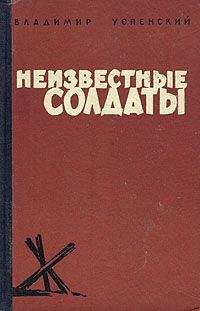И что еще удивительнее — рядом с новобранцем, который так себе парень, ни два ни полтора, ни лицом ни ростом не вышел, — смотришь, рядом с ним такая девушка павой вышагивает, что хоть сейчас под венец. Словно не в армию, а в загс провожают. Словно не его, сорванца и забияку, у которого синяки под глазами не сходят со школьной скамьи, а ее — почет и уважение — вышла чествовать вся Апрелевка. А подвыпивший родитель этого новобранца вдруг приосанится и не устанет пожимать встречным руку.
— Что, Петрович, сынка в армию снарядил?
— Дак оно как положено, Иваныч!
— Ну-ну… А чья это рядом с ним?
— Невеста его, чья же еще!
— Смотри-ка! Солдат и жених, стало быть?
— Дак оно как положено!
И взыграет гармонь, и подхватят голоса не печалью, а надеждой:
Прощай, Апрелевка, мы знаем:
Солдат девчата подождут.
Теперь настал мой черед пройти по Апрелевской улице. И все как у всех. И веселая толпа, и гармонь впереди. И бодрящийся отец, и мать, едва сдерживающая слезы. И впереди — до самого шлагбаума дорога, правда не в ухабах, не в булыжнике, а в рыжем, заезженном машинами асфальте. Тысяча раз «спасибо» Борису! Он шел все-таки рядом. Красное кашне из-под плаща через плечо. В правой руке мой чемодан, в левой — новенький портфель с бронзовой застежкой. С вокзала Борису надо ехать в Москву, в институт. И его портфель значил, конечно, куда больше, чем мой чемодан. Там конспекты, учебники, а здесь — пара белья, бритва, мыло, зубная паста. Там руда науки, из которой Борис выплавит синий ромбик с золотым гербом посредине — красу и гордость дипломника, здесь — походные атрибуты, уложенные согласно предписанию военкомовской повестки.
Я с завистью поглядывал на лоснящийся портфель, но не осуждал Бориса. Он прав: каждый как может. И не поддайся я минутному малодушию, не пойди на поводу у отцовского «все успеется», сдай я в конце концов документы в тот же пищевой институт — я не топал бы сейчас во главе толпы под переливы «Апрелевской длинной». Сидели бы мы сейчас с Борисом в электричке, листали конспекты. А там… Какое мне было бы дело, что там! Поживем — увидим. Не все улицы — Апрелевские и но все, как сейчас вот эта, упираются в полосатый железнодорожный шлагбаум.
— Ты чего нахохлился, как побитый петух? — Это Борис. Надавил плечом, заговорщицки подмигнул: — Ты чего нос, спрашиваю, повесил? Оглянись, гвардеец! Раз, два, три! Кругом!
Я обернулся и сразу как будто прирос ботинками к асфальту. Позади меня, на расстоянии нескольких шагов, прячась за других провожатых, шла Лида. Шла не одна, с подругой под руку. Незнакомая девчонка. Я сразу понял — для отвода глаз.
На Лиде была коричневая болонья, из-под воротника ласково выглядывал голубой газовый шарфик. И снова, как вчера ночью на фоне рябиновой ветки, мне показалось, что здесь, на дороге, я разглядел в Лидином лице что-то очень новое, чего но мог заметить раньше.
— Ну что, усюрпризил я тебе, а? — спросил Борис и тут же крикнул, пятясь, хватая Лиду за рукав: — Лида! Шире шаг! Давай сюда, к нам!
Не успел я опомниться, как Лида очутилась между мной и Борисом.
— Да возьмитесь вы, истуканы! — сказал Борис весело и отодвинулся, приотстал, оставляя нас впередишагающими.
Как будто деревянный, я взял Лиду под руку и сквозь болонью почувствовал, какая она горячая.
Чего я тогда так стеснялся? Но мы шли впереди, впервые в жизни у всех на виду под руку, и теперь, как бы там ни было, все знали, кто ей я, кто мне она.
— Мам, — промолвил я, начиная смелеть, — познакомься, это Лида.
Мать улыбнулась глазами, как-то понимающе и ободряюще кивнула.
— Мама, — ласково сказала она и учтиво добавила: — Татьяна Сергеевна.
«А, что там! — подумал я, окончательно поборов робость. — Кого стесняться? Все равно война!» — и, взяв Лиду за талию, привлек к себе.
Подставив острый локоток, Лида отпрянула.
— Не надо, — жестко сказала она. — Убери руку. Я тебя только провожаю, и, пожалуйста, без претензий.
Все-таки наглец я. И надо же было испортить такую хорошую песню. До платформы не проронил больше ни слова.
На переходном мосту, перекинутом через железнодорожные пути, я приостановился. Пока что в Апрелевке это самая высокая точка обозрения. С моста город весь как на ладони. Наверное, многие, кто не был в Апрелевке даже лет пять, не узнали бы ее. Разрослась, раздалась многоэтажными домами вширь до самого леса. И правда, город но только по названию. За силуэтами башенных кранов я не сразу нашел крышу родного дома. Да и не увидел ее, а скорее угадал по телевизионной антенне. Вместе с отцом когда-то мастерили и поднимали — стройную, высокую. Отсюда, с моста, она и показалась мне сейчас мачтой корабля. Корабля детства, уплывающего в безвозвратный рейс от пожелтевших берез, от разлапистых лип, от яблонь, под которыми сиренево дымятся осенние костры. Дом оставался на месте, это я уплывал от пирса, от пристани, от порта с таким весенним, как апрельская капель, названием — Апрелевка.
Пятнадцать минут до электрички с надписью: «Москва — Нара», если тебя провожают в армию, меньше чем пятнадцать секунд. Гармонист еще что есть силы тормошит мехи, выдавливая из них задорные звуки плясовой. Каблуки и каблучки так стучат по платформе, что она осела еще сантиметров на пять (говорят, с каждыми проводами в армию платформа после «Барыни» становится ниже), и снова песня, и снова пляс! Но от станции «Победа» уже отправлен поезд. Машинист переводит ручку на «Полный вперед», и вот уже мимо поля, мимо депо, мимо завода мчится к тебе твой «состав сорок вагонов». И с последним аккордом гармони сливается торжествующий, зовущий в дорогу крик электрички.
До свидания! Мокрая соленая щека матери, жесткая щека отца. Сестренки ткнулись в щеку. До свидания, до свидания! Нащупал среди других руку Бориса. Пока, пока! Стой! А где Лида? Была не была… Подбегаю к ней, обнимаю и целую в губы. На виду у всех. Она прячет лицо, в глазах изумление: «С ума сошел! Ты что, как тогда?»
«Как тогда? как тогда? как тогда?..» Это уже колеса электрички стучат по рельсам. И хотя мимо окон проносится лес, все, кто минуту назад остался на платформе, как в замершем кинокадре. Мама, отец, сестренки смотрят на Лиду. Смотрят так, словно она свалилась с неба. Мама с улыбкой вытирает слезы, лукаво перехватывает мой взгляд отец, озорная озадаченность на лицах сестренок. И только один человек невозмутим — Борис. Он подходит к Лиде и что-то ей говорит. Что именно? Я не мог расслышать. Хлопнули двери, отсекая меня от Апрелевки. Техника — даже не выглянуть, не помахать.
«Как тогда? как тогда? как тогда?..» Что она этим хотела сказать?
— Да, брат, любовь не картошка, — произносит кто-то рядом.
Сбоку на меня смотрит серое в оспинках лицо. От глаз — смешинками морщинки. Я замечаю под ногами пустую корзину. Московский грибник. Наверное, едет в Рассудово на заветные места. Человек на вид солидный, а лезет в чужие дела. Небось глаз не отвел от окна, пока мы прощались на остановке.
Я отвернулся, ничего не ответив. Но сидевшая напротив женщина с двумя мешками, из которых проглядывали бидоны, не дав угаснуть первой фразе, нетерпеливо изрекла:
— Какая у них, у нонешних, к шутам любовь? Напялют эти, как их там… шорты-форты, и не поймешь, где парень, где девка. Ходят в обнимку, как эти самые… прости ты меня господи!
Теперь промолчал мужчина. Видимо, из солидарности со мной. Такой собеседнице только дай повод — профсоюзное собрание откроет в вагоне.
Ехали молча. И забыть было бы пора, но не выдержал мужчина. Сказал, ни на кого не глядя:
— Так смотря что подразумевать под любовью? Мы с супругой в субботу на танцах познакомились, в воскресенье — война. И пришлось первое свидание отложить на четыре года. Дождалась, хоть и пришел к ней не с букетом, а с пустым рукавом.
Нет, не ей он это говорил, не женщине с бидонами, а мне. Тогда я не понял, а теперь точно знаю, что мне. Бывают такие люди — встретятся на пути прохожими, так, мимо пройдут, и лица-то не запомнишь, а слово, сказанное ими на ходу, в душе остается. И запоминается оно потому, что сказано в трудную минуту.
Мужчина сошел в Рассудове. И хотя за все это время я так и не проронил ни слова, у дверей он обернулся:
— До свидания, солдат, счастливо служить!
И побрел себе но спеша по тропке меж берез. «Как тогда? как тогда?..» — опять затараторили колеса.
Как — тогда? Нет, совсем не так, как тогда. Я только сейчас понял, что подразумевала Лида под этими словами. Она напомнила мне день, который я и сам не могу забыть. Но как ей доказать, что тот первый поцелуй, «тогда», был совсем не то, что сейчас. Я и себе до сих пор ничего не могу объяснить.
Что такое любовь? В школе мы эту тему проходили на поучительных примерах Татьяны и Онегина, Ромео и Джульетты, Карениной и Вронского. Еще можно привести с десяток таких «пар» — и все уложатся в формулу, она его любит, он ее нет, или наоборот. Удивительное однообразие! Конечно, приходится посочувствовать Татьяне Лариной, что у нее так печально получилось с Онегиным. Но и этот вертопрах — тоже хорош гусь! — нагрубил девушке, ухлопал ни за что ни про что друга и потом — нате! — приехал к Татьяне извиняться. У Ромео и Джульетты, Карениной и Вронского вообще трагедия. И все из-за любви. Так что же все-таки любовь? Хоть бы раз кто-нибудь взял да и поднял руку. «Николай Григорьевич! Вот вы, как учитель, как классный руководитель, скажите, пожалуйста, прямо, без ссылки на Пушкиных, Шекспиров и Толстых, — что такое любовь?»