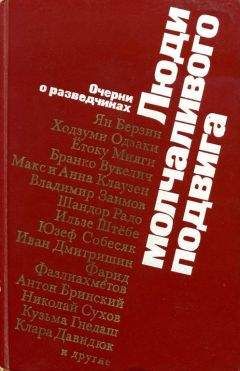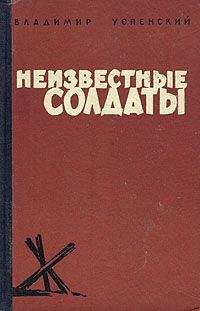Так то на параде, на Красной площади, у всей страны, у всего мира на виду! А здесь пыль да песок, и в гд его набилось столько, что каленым железом жжет мозоли. И ноги как чугунные. И никто нас не видит, кроме товарища мичмана. И никогда нам не маршировать по Красной площади. А на кораблях строевых парадов не устраивают. Кому, зачем это нужно, если в двух шагах море. Море! Посадил бы на шлюпку, дал бы весла — и командуй на здоровье. Мы же моряки, товарищ мичман!
Не одна неделя и не две, а много-много дней прошло, пока я понял, что строй — это дисциплина действий. Может, сто, а может быть, тысячу километров прошагает человек на занятиях строевым шагом, пока наконец ощутит и телом и сердцем справедливость этих слов. Есть неуловимая связь между четкостью движений в строю, дружной согласованностью шага матросской колонны и мгновенной реакцией, единым порывом экипажа корабля в минуты напряжения всех сил — в минуты боя, пусть даже учебного.
Есть невидимая, как напряжение в проводах, не бьющая током связь между «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!» и «По местам стоять!», «С якоря сниматься!», «Аппараты товсь!», «Пли!».
Я этого тогда еще не понимал, как первоклассник не понимает смысла слова, складываемого по слогам. Это были азы службы. И мне еще предстояло соединить, осмыслить такие разные, не относящиеся друг к другу прямо, нестыкуемые учебные дисциплины, как строевая подготовка и радиоэлектроника, устройство шлюпки и современные виды корабельной связи.
Пока что я только был одет по-матросски, но еще не стал военным моряком. И прежде чем я произнес клятвенные слова военной присяги, прежде чем мою бескозырку обвила черная лента с золотыми буквами, я должен был научиться элементарному — ходить, бегать, прыгать, ползать, а главное — держать в руках оружие и владеть им.
Конечно, в тот день, когда мы впервые вышли на строевую подготовку, моя голова была занята не этими мыслями. Я настойчиво обдумывал одно и то же: как все-таки выбраться к морю. Через контрольно-пропускной пункт не пройти. Остается единственный путь — через забор. Незаметнее всего это можно осуществить напротив камбузных окон — места самые безлюдные. Да и забор там, кажется, пониже. И как только я его перемахну, меня сразу замаскируют кусты.
«Тимошин, где у вас левая рука! — услышал я голос мичмана. — Я же подал команду «Налево», а вы куда повернулись? Тряпочки, что ли, вам нашить на рукава?»
«Придирайся, придирайся, — со злорадством подумал я, — а на море все-таки схожу. Что я, за тыщу верст киселя хлебать ехал?»
Свой план я осуществил после ужина. Когда нам дали полтора часа на подгонку обмундирования и в кубрике начался кавардак, я проскользнул мимо дневального и через минуту был уже по ту сторону забора.
Если бы засечь время, то полкилометра до моря, с учетом пересеченной местности, я пробежал, наверно, с результатом всесоюзного рекорда. У меня сразу перехватило дух, как только я поднялся на бугор, с которого во всю даль, куда ни взгляни, во всю ширь, куда ни повернись, катилось море. Оно дышало мне навстречу таким ветром, что падай вперед и не упадешь — воротничок затрепетал за спиной, вот-вот вырвется и улетит, парусом надулась роба.
Ура-а-а-а! Передо мной было настоящее море. Мое море! Совсем не то, что на фотокарточках Бориса или за волноломом.
Сизые волны громоздились одна на другую, сталкивались, поднимая каскады брызг, вставали на дыбы у берега и с грохотом разбивались о камни. Вода ходила ходуном, словно там, на глубине, сошлись в яростной битве стада слонов. Сцеплены бивни, закручены хоботы, еще секунда — и из распада воли выглянет лопоухая голова с маленькими покрасневшими глазками. Раздастся трубный клич, и все стихнет.
Но снова вырастает живой пенящийся холм и снова кипит вода, опадая с невидимых гигантских спин.
Я сбросил робу и боязливо окунулся в волну. Ничего, ничего страшного! Только выждать, пока другая подкатит, подпрыгнуть и, как с горки, — через гребень. Качнет, потормошит и отпустит. Вот уже по грудь и можно плыть, как в люльке. Волна хлестнула по щеке, я набрал полный рот воды, поперхнулся и от неожиданности глотнул — горькая! Соленая морская вода, какой я еще не пробовал в жизни. И тут осмелел окончательно: давай, давай, а ну, навались, волны! Теперь я не жмурился, а смотрел им навстречу, и не только смотрел, а плыл: на горку — с горки, с горки — на горку. Только не открывать рта, а дышать носом.
Так я барахтался, не заметив, что берег отодвинулся от меня на порядочное расстояние. Пощупал ногами дно и похолодел — но достать. Назад, назад! Я что есть силы загреб руками и почувствовал, что плыву на месте. Волны, откатываясь от берега, не пускали меня обратно. «Когда тонешь, главное — не растеряться, взять себя в руки…» Кто это сказал? Я еще не тону. Вот почему мичман не пускал… И еще кто-то говорил, что в шторм море катится не только к берегу, но и от берега, может запросто унести. А на берегу — ни души, и, если начну тонуть, бесполезно кричать, все равно в этом грохоте никто не услышит.
Я опять попробовал достать ногами дно, и в тот момент, когда мне показалось, что пальцы коснулись песка, услышал крик. Не может быть! Здесь же нет никого… Мне стало жутковато.
Но крик повторился. «Эй… Эй… Пома… — и через несколько секунд, — …гите, гите!» Я повернулся на голос и в провале волны увидел стриженую голову и размахивающие руки. Метрах в двадцати, не дальше. Опять накатывалась волна, и опять захлебывающийся вскрик.
Я и тогда но мог понять и сейчас но представляю, как в этой сумятице волн доплыл до тонущего. Огненные круги вспыхнули перед глазами, кто-то, словно клещами, обхватил мою шею. Я крикнул, чтобы отпустил, и захлебнулся. Так в погруженном состоянии, сам головой вниз, и волок его почти до самого берега. Думал, легкие взорвутся. А он уже по колено в воде стоял, все не отпускал. Я собрал последние силы и вырвался. И вдруг увидел, что это Сулимов, левофланговый, тот самый, который намекнул мне насчет Большого театра.
Я никогда в жизни не ругался, а тут…
— Эх, ты… — сказал я, не попадая зуб на зуб.
Он ничего не ответил. Все икал, натягивая робу. И по тому, как он озирался, можно было догадаться, каким путем добирался до моря. Перед тем как шмыгнуть в кусты, Сулимов, не поднимая глаз, сказал: «Ты только мичману но говори, что я, это самое… ну… плавать не умею».
Выждав, когда по всем расчетам Сулимов должен был оказаться в кубрике, я заспешил обратно. За какой-то час мое отсутствие вряд ли обнаружили. Приду как ни в чем не бывало.
Подтягиваясь на заборе, я осторожно заглянул во двор. Вокруг не было ни души. И, уже переваливаясь через острые штакетины, услышал воркующий басок:
«Смелее, смелее, товарищ Тимошин! Или каши мало ели?»
Это был мичман, который вырос словно из-под земли. У меня отнялся язык.
Колдовство. Я но верю ни в какие телепатии. Но мичман обладал особым чутьем на все мои каверзы и оплошности. В этом за время прохождения курса молодого матроса я убедился не однажды.
За первое морское купание я расплатился первым нарядом вне очереди.
Видели бы мать и отец, видела бы Лида, видел бы Борис… Как хорошо, что они не могли этого видеть!
Я стоял перед строем, а мичман ходил взад и вперед, растолковывая смысл моего проступка. Мне особенно запомнилось новое словечко, которое он повторил несколько раз: «самоволка».
Ребята переминались с ноги на ногу и жалостливо поглядывали в мою сторону. Переживали. И лишь у Сулимова в глазах застыло непонятное выражение. Словно бы он хотел что-то сказать, но не решался. Когда наши взгляды встретились, я ему подмигнул. Сулимов отвернулся.
«А теперь, — сказал мичман, закончив нравоучение, — марш в гальюн, Тимошин. И — чтоб до блеска! Проверю лично».
Я набрал в ведро воды, взял тряпку и побрел выполнять первый в жизни наряд вне очереди.
Чистить гальюн — занятие не из приятных. Я не был белоручкой, но…
Лазая на коленях с тряпкой по кафельным плиткам, я и не заметил, как в дверях появился Сулимов. Он, наверное, уже долго стоял и молчал.
«Мотай, мотай отсюда, — сказал я, стирая с лица грязные капельки пота, — видишь, гальюн закрыт на учет».
«Да я не по этому делу, — ответил Сулимов. — Давай помогу».
Я отказался наотрез. А самому все-таки было приятно. «Значит, не тюфяк, — подумал я, — значит, заела совесть». И когда через несколько месяцев сдавали зачет на стометровку, я приплыл самым последним, опять из-за Сулимова, потому что подстраховывал его, тащился позади. К тому времени Сулимов уже держался кое-как на воде.
Мичман кольнул: «Языком, Тимошин, вы работаете хорошо, а плаваете хуже топора. Вот руками бы так работали и ногами».
Не знал мичман, почему я оказался на финише последним. Не знал он и того, почему в часы купания (дал все же командир «добро» на море) двое его матросов старались не удаляться от берега. Я потихоньку передавал Сулимову весь опыт, накопленный на подмосковной Десне. Научиться плавать на море было несравненно легче.