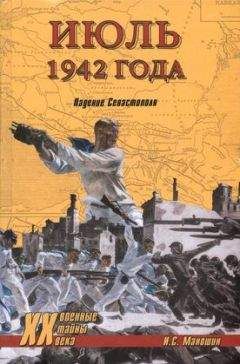– Моя очередь, пойду поговорю с земляками по-свойски. Три патрона еще найдется.
– Не стоит, – не согласился Старовольский.
– Стоит, – отрезал Федор. – Да я быстренько, шугану их и всё. Наши ребята по доброй воле за смертью гоняться не станут. Я только скажу пару ласковых, да стрельну там разочек. Чтоб понятнее хлопцам было, куда им соваться не стоит.
– Хорошо, – рассудил Старовольский. Понял, иначе нам крышка. – Мы будем ждать. Здесь.
– Да я туда и обратно, зараз буду туточки.
Не знаю, долго ли проживу я на свете, но до конца буду жалеть, что не знаю румынского языка. Или молдавского? Безразлично. Что им сказал Молдован, что они ему ответили… Был выстрел из «ППШ», потом из винтовок, еще из чего-то автоматического, незнакомого мне по звуку, снова из «ППШ», где-то совсем в стороне. И еще один, последний, после которого долго гремели очереди. Старовольский с пустым пистолетом рванулся было из подворотни, но Меликян и Мухин, не сговариваясь, немедленно его перехватили.
– Не дури, лейтенант, – прошипел бытовик.
Выстрелы смолкли. Довольно далеко от подозрительного забора, за которым недавно скрывались румыны. Молдован увел «земляков» за собой. Старовольский сказал:
– Уходим.
Когда же на улицу, через которую мы перебегали, выкатился задом бронетранспортер, мы и нырнули в тот самый полуподвал, откуда до сих пор не можем выбраться. С бронетранспортера нас не заметили, там были заняты пулеметной стрельбой по неизвестной нам цели. Однако несколько минут спустя по улице засновали немецкие пехотинцы, запыленные вроде нас, с такими же черными мордами, ободранными локтями и коленями – но обвешанные боеприпасами. Все пути оказались отрезанными.
* * *
Шел второй день – без сна, воды и пищи. Рокот машин на улице, грохотание сапог, изредка крики и лай овчарок. В отдалении рокотали пушки, где-то еще продолжался бой. Иной раз выстрелы звучали поблизости. Непривычно резкие, неожиданные, от каких мы успели отвыкнуть, словно бы разрывавшие тишину – весьма относительную, но для нас, недавно вышедших из боя, тишину.
Нам ничего не оставалось, кроме как разговаривать. Больше о прошлом. Мухин рассказывал о Марьиной Роще и немного о лагерях (младший лейтенант не перебивал), Меликян – если не мучила рана – об армянском своем городишке, больше похожем на село, о горах и о том, как в пятнадцатом его родители бежали от турок из Турции, и снова бежали от них, уже в восемнадцатом, когда не стало царской армии и перестал существовать Кавказский фронт. Могло сложиться впечатление, что Николай Кровавый был чуть ли не спасителем армян, тогда как Брестский мир и стихийная демобилизация прогнившей царской армии едва ли их не погубили. Диву порой даешься, какая бывает каша в голове у недостаточно начитанных людей.
В эти дни я многое узнал о лейтенанте. Например, что Старовольский когда-то хотел изучать филологию, но отец настоял на политехническом институте. Когда я спросил почему, он только грустно улыбнулся. Мухин потом объяснил: «Инженером – это правильно. В лагере самое верное дело: будешь в придурках ходить – не пропадешь». Про придурков я тоже не очень понял, однако Мухин объяснил мне и это. Поразило же меня совсем другое. Мой личный разговор со Старовольским отвратительным душным вечером, когда Меликян и Мухин забылись тяжким сном, а мы вдвоем сидели на часах.
Я сам тогда начал беседу и не сразу заметил, как она стала приобретать весьма нездоровый уклон. Сначала шло вроде бы правильно. Я рассказывал о Мишке. Вспоминая разные подробности из того, что было раньше.
– Да, Михаил был человек каких мало, – заметил Старовольский. – Неподдающийся, непробиваемый. И такая прекрасная смерть. Если умирать – то лучше не бывает. Я вот думаю – а я бы смог? И сам не знаю, что ответить.
Я пожал плечами. Странные сомнения. После всего, что было. После всего, что я видел. После Бельбека и Мекензиевых Гор.
– Видишь ли, – объяснил он, несколько волнуясь, – одно дело, когда все вместе, на виду, это работа, если что – значит, не повезло. А одному, точно зная – и когда в принципе можно уйти…
Он замолчал, спохватившись, что разоткровенничался с подчиненным. Правильно спохватился. Но я в нем всё равно не сомневался. И уж коль на то пошло, совсем не один был Мишка. Он спас меня, спас других. А я? Господи ты боже мой, вот мне как раз-то лучше и не думать. Перед глазами возникло Маринкино лицо, с розовой пеной вокруг закушенного рта, с испуганными детскими глазами. «Все равно умру, уходи…» Я рассказал Старовольскому о последних словах Михаила. «Познакомятся твари облезлые с русским матросом Шевченко».
– Почему он так сказал, товарищ младший лейтенант? Ведь он советский матрос, краснофлотец. И не русский совсем, украинец.
Вместо ответа Старовольский переспросил:
– Прямо так и сказал?
– Ну, да, я сам слышал.
Лейтенант пожал плечами.
– Возможно, для него это было важно. А может просто так, фигура речи. Теперь так часто в газетах пишут. Какая разница? Только зря ты говоришь, «нерусский совсем». Мишка бы обиделся.
Это показалось мне странным, и я решил кое-что уточнить.
– Разрешите спросить? – спросил я Старовольского.
– Ну, спрашивай.
– А вы… кто по национальности?
Несмотря на сумрак, я понял, что он улыбнулся. Той самой усталой своей улыбкой. И снова переспросил:
– А ты сам, Алексей, кто?
– Я русский, – ответил я без колебаний.
– Я тоже. Есть сомнения? – вновь усмехнулся он.
– Нет… Просто вы из Киева. Это ведь Украина.
– Ну да, Украина… УССР. И что? Ты думаешь, там русские не живут?
– Есть, конечно. Русские везде живут, только они не местные. Вот вы откуда на Украину приехали?
Он покачал головой.
– Я потомственный киевлянин. Там и дед мой жил, и прадед. А те, что жили не там, те и вовсе – кто из Умани, кто с Подолья, кто с Волыни. Одесситы тоже были – как у Шевченко, который не Тарас. Хотя Одесса – это уже не Украина, а Новороссия.
Я снова не понял.
– Какая Новороссия? Новороссийск – это на Кавказе, а Одесса на Украине.
Он улыбнулся опять.
– Не на Украине, а в составе Украинской Советской Социалистической Республики. Это разные вещи. Новороссийск и Новороссия – это тоже не совсем одно и то же.
Я не унимался.
– Значит, они были украинцами, ваши предки?
– По нынешней терминологии выходит, что так. Но раньше ведь другая была.
Мне сделалось смешно. Еще один Меликян на мою голову. Стало быть, и образование не спасает.
– Раньше – это при царе? – спросил я его, а потом заострил вопрос: – Тогда, когда Украина была русской колонией?
Старовольский вздохнул. Однако сдержался. Спокойно пояснил:
– И при царе, и раньше. Только это долго объяснять, всю русскую историю пересказывать надо.
– Так значит, вы все-таки украинец?
– Можно и так сказать. Коль скоро я с Украины, из Киева.
Я поспешил поймать его на противоречии.
– А только что сказали – русский.
Старовольский не смутился. В голосе прозвучала насмешка.
– Да ты в школе отличником был, похоже. Историю любил?
– Да. У нас хороший был учитель. Старый большевик, из ссыльных политкаторжан.
Старовольский задумался. По улице прошел патруль. Звякнула железка. Меликян простонал во сне. Рана не давала ему покоя, а условия были, безо всяких оговорок, антисанитарные.
– Как бы тебе объяснить… – шепнул Старовольский, прислушиваясь к звукам снаружи. – Не все, что пишут в учебниках, – правда. Или не вся правда. Чаще это полправды, четверть правды, осьмушка.
Я снова не понял, что он имеет в виду. На всякий случай пояснил:
– Я по советским учебникам учился, не по буржуазным.
Он вздохнул, как мне показалось – печально. Потом сказал:
– Так и быть, попробую объяснить. Все равно до ночи делать нечего. Видишь ли, есть разные украинцы. Есть такие, которые украинцы – и потому не русские. Это их право, хотя они, к сожалению, очень часто становятся нашими врагами.
– Как те диверсанты?
– Да, как те. Есть такие, которые украинцы, но, несмотря на это, всё равно русские. Их когда-то обманули, сказав, что одновременно быть русским и украинцем нельзя, а можно только или-или. И они поверили. Но отказаться от себя не смогли. Это ведь очень трудно – от себя отказаться. Почти невозможно. Их прадеды были русскими, их деды, их отцы, а они почему-то ими быть перестали… А есть такие, которые украинцы – и именно поэтому русские. Правда, они не любят, когда их называют украинцами. Потому что многие, вроде тебя, считают, что ежели ты украинец, то значит, не русский. Их очень много, пусть и гораздо меньше, чем прежде. Вот к ним я и отношусь. И мой отец, и мать, хоть она по происхождению и не совсем русская.
– А Шевченко?
– Видимо, и он. Но у него спросить нельзя. Раньше не до этого было, а теперь не получится.
– А Тарас?
– Какой еще Тарас? – удивился Старовольский.
– Который тоже Шевченко.