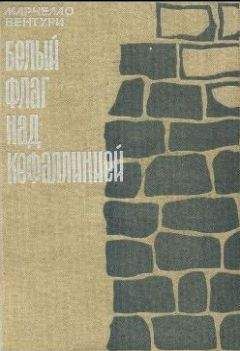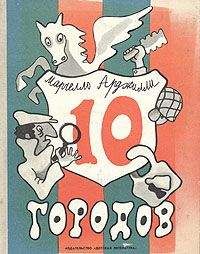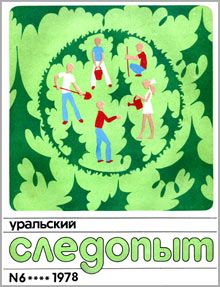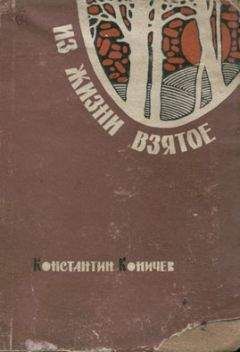Мы отправились дальше. Под соснами, сбегавшими вниз к самому краю дороги, тянулись низкие каменные ограды садов, поросшие травой и мохом. Они почти не пострадали, но от жилищ, которые они некогда окружали, остались одни развалины. По-видимому, это был самый аристократический район острова, район богатых вилл. Я представил себе, как они были хороши, эти выкрашенные в алый или голубой цвет виллы с распахнутыми настежь зелеными ставнями, и как из окон выглядывали здесь занавеска, там спинка кровати, там лампа под абажуром с бахромой из бисера. Сейчас за оградами не было ничего, кроме развалин и зарослей бурьяна. Кое-где у стены стояли деревянные постройки — как бы дома в миниатюре. Они тоже были выкрашены в красный или голубой цвет, у них тоже были двери, оконца и зеленые ставни.
— Вот мы и пришли, — заявил Паскуале Лачерба, остановившись перед ржавой железной калиткой. Каменные ступени, выдолбленные прямо в породе, вели к одному из таких домиков: он был нежно-розового цвета. У входа висел фонарь из кованого железа. По обе стороны фасада пестрели две небольшие клумбы, густо засаженные цветами; мы еще на дороге почувствовали их нежный аромат. Дальше, за крышей, виднелся примыкавший к лесу заброшенный огород неправильной четырехугольной формы.
Сюда ходил ночевать мой отец. Не в этот самый дом, конечно, а в другой, но именно здесь, поблизости, он останавливал свой мотоцикл. А каменные ступени сохранились, наверное, еще с того времени. Когда его везли мимо на грузовике, он, должно быть, повернул голову в эту сторону, надеясь в последний раз увидеть Катерину Париотис и ее родителей, через открытое окно бросить взгляд в комнатку, которую снимал у них.
Мы стали подниматься по ступеням. Фотограф шел впереди, постукивая палкой по камню и проворно подтягивая натруженную правую ногу.
Мы остановились у порога, под корабельным фонарем из кованого железа. Паскуале Лачерба постучал кривым набалдашником своей палки в тонкую фанерную дверь, из-за которой не доносилось никаких звуков. Затем послышались шаги, дверь распахнулась, и в темном четырехугольнике входа появилось бледное сухощавое лицо Катерины Париотис, освещенное ярким опаловым светом утра. Она была немного растрепана; в черных волосах проглядывала грязновато-серая седина, но глаза, без прожилок, ясные, незамутненные, оставались черными-пречерными.
Паскуале Лачерба заговорил — по-видимому, объяснял, кто я такой и зачем мы к ней пожаловали. По мере того как он говорил, она все больше сосредоточивала свой взгляд на моем лице, как бы стараясь — на этот раз я был уверен, что не ошибся, — разглядеть отцовские черты. Я ей улыбнулся и, внезапно охваченный чувством какой-то вины, смутился.
Я спрашивал себя, зачем я пришел к этим людям и разбудил давно забытые воспоминания, воспоминания, окончательно погребенные землетрясением!
Лишь в ту минуту, чувствуя на себе взгляд Катерины Париотис, я понял, что вторгаюсь в чужую жизнь. Бередя прошлое, я насилую их память, самим фактом своего появления заставляю их извлекать на свет то, что было ими давно похоронено.
— Входите, — сказала Катерина Париотис.
Голос ее меня поразил; глядя на ее пожелтевшее лицо, нельзя было предположить, что у нее такой свежий, молодой и красивый голос.
— Входите, — сказала она, хотя сама не трогалась с места. Катерина Париотис застыла на пороге, не сводя с меня глаз.
Мелькнуло воспоминание…
Почему-то сквозь дымку прошлого она увидела не сцену его смерти, смерти капитана Пульизи, а ночь на мельнице, их первую ночь на мельнице, когда ничего не произошло. Именно эту теплую ночь заново пережила она невольно в этот краткий, но всеобъемлющий миг при виде молодого Пульизи.
Фигура капитана чернела на фоне звездного неба. Она не могла рассмотреть его лицо, но узнала сразу. Услышав треск мотоцикла, она подошла к окну и увидела: он стоит на садовой дорожке и смотрит вверх, на нее.
— Калиспера, кириа, — сказал он.
— Калисиера, синьор, — ответила она.
На обочине дороги она увидела большой мотоцикл военного образца; приподнятое заднее колесо еще продолжало вращаться.
— Я приехал навестить тебя, — сказал капитан. Катерина Париотис улыбнулась в темноте: его приезд не был для нее неожиданностью, она его ждала, она даже надеялась…
— Вы очень предупредительный жилец, — сказала она.
«Как я смешна. — думала Катерина Париотис, — беседуя через окно с итальянцем». Он тоже был смешон, когда стоял там, внизу, точно деревенский парень под окном своей красотки. Слова падали медленно, разделенные долгими паузами; оба с трудом находили, что сказать.
— Ну как, не удается вам снять комнату в Ликсури? — спросила Катерина.
Капитан сделал несколько шагов по дорожке, красный огонек сигареты описал дугу среди садовых цветов.
— Дело не только в этом, — ответил он.
Теплую августовскую ночь заполнил стрекот кузнечиков. Они пели повсюду; казалось, остров кишит ими. Их многоголосый хор устремлялся к небу.
— А в чем? — спросила Катерина Париотис. Капитан остановился в нескольких шагах от двери; он не знал, что нужно сделать, чтобы она его поняла. Он сам не понимал, в чем дело. Может быть, движимый чувством вины, он испытывал потребность обменяться с ней несколькими словами, удостовериться, что она все еще питает к нему дружеские чувства, что ничто не изменилось после того, как его батарею перевели в Ликсури. Дело в том, что ее дом в какой-то мере казался ему родным.
— Хочешь, пройдемся немного? — предложил ей капитан.
Катерина бросила взгляд на море, зиявшее за спиной капитана, позади белой полосы дороги, и ее охватило смятение…
Она сказала:
— Сейчас выйду.
Очутившись в саду, она удивилась, как все оказалось просто. Но когда она шла следом за капитаном по усыпанной гравием дорожке, у нее было такое чувство, будто она только что встала после тяжелой болезни, — так неуверенна и в то же время легка была ее походка.
— Куда мы пойдем? — спросила она. В действительности ей было безразлично, куда идти. Не безразлично и странно было лишь то, что она в такой поздний час — не дома, а здесь, в обществе капитана Пульизи, того самого капитана, которого раньше считала своим врагом.
Она села на заднее сиденье мотоцикла, широкое и удобное, как креслице; где-то под ней, возле колен, оглушительно затрещал мотор. Вибрация передалась ее телу, откуда-то из-под ног вырывались и исчезали за колесом вспышки голубоватого пламени.
Они мчались в темноту, и, теснимая рулем, ночь отступала. Ветер хлестал Катерине в лицо, трепал волосы. От быстрой езды и ветра у нее появилось желание петь, которого она не испытывала с довоенных лет. Она забарабанила кулаками по спине капитана.
— Быстрее! — крикнула она.
Но капитан не расслышал, ветер подхватывал ее слова и уносил прочь.
Они остановились близ морских мельниц. Здесь, над этими несуразными строениями и над гладью моря, звезды приобрели какую-то особую неподвижность и яркость. Капитан сошел с мотоцикла, чуть подал его назад и поставил на подпорку; Катерина продолжала сидеть на своем месте. Он подошел к ней; их лица оказались на одном уровне.
— Ну вот, — произнес он.
Катерине стало страшно.
— Что — вот? — спросила она.
Альдо Пульизи тряхнул головой; он не знал, куда деть глаза.
— Ничего, — сказал он.
И посмотрел перед собой, куда-то поверх ее маленькой головки, четко вырисовывавшейся при отраженном свете моря; глаза ее сияли, как звезды. «Как звезды», — подумал он.
— Как звезды, — произнес он. Ну не смешно ли было все это?
Капитан понял это тогда же, но он был доволен, что сказал эти слова. Он дотронулся до ее лица, погладил.
— Твои глаза похожи на глаза моей жены, — сказал он.
Катерина улыбнулась — почувствовала, что ей больше не страшно. С моря дул ветерок, она зябко поежилась.
— Вернемся домой, — прошептала она.
Капитан нажал на педаль, мотор заработал, и они снова помчались в темноту, в ночь, которая отступала перед его рулем, перед ними и перед чем-то еще, о чем она в ту ночь еще не знала.
— Почему же вы не входите? — спросила наконец Катерина Париотис, давая им дорогу.
Она улыбнулась. Улыбка у нее тоже была свежая. Красивая и свежая, как ее голос.
Мы вошли. Паскуале Лачерба шел первым и что-то говорил по-гречески.
Точно такую гостиную можно увидеть в любом провинциальном городке Италии. Мы сели на красный плюшевый диван. Посреди комнаты — стол; на столе, на круглой салфеточке — стеклянная ваза с букетом из листьев. Стены дощатые (в этом доме все деревянное, по-видимому, из готовых деталей, полученных в дар от шведского Красного Креста); на стенах портреты: старик крестьянин с усами, в праздничном костюме и наглухо застегнутой рубашке без галстука; на другом, широко раскрыв глаза, напряженно смотрит в объектив морщинистая старушка в черном платке, прикрывающем плечи.