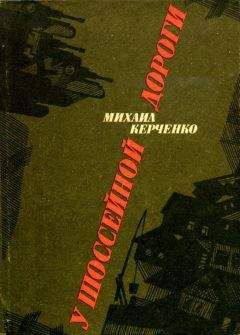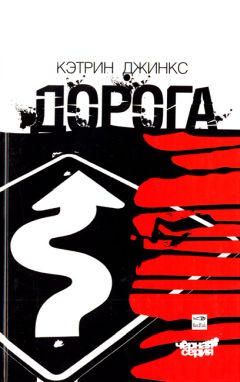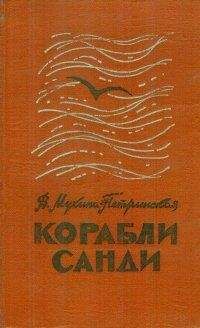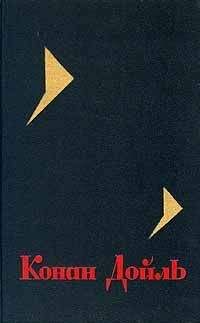Я молча распрягал лошадь, хмурился от злости на Рогачева.
— Так вы и не поговорили с этим…
— Как же, говорил. Пошел я в лесную прогалину, куда нырнула ихняя машина. На поляне ульи, тут и сам начальник — маленький, занозистый и его шофер по прозвищу Тюха. Сидят, покуривают. Вот я и спросил: кто, мол, вам, товарищ Рогачев, разрешил такие дела творить? А он растер горящую папироску пальцами, обжегся, видно, плюнул и набросился на меня, что твоя шавка: «Да ты кто такой, чтоб я перед тобой отчитывался? Ты что за спрос?» — «Сторож, говорю, че, не признаете?» — «Вот и сторожи то, что тебе доверено. А то сыму с работы». Тут уж я вспылил: «Руки коротки. Я к тебе в сторожа не нанимался. А ты че делаешь? Самоуправством занимаешься? Ты мог бы совхозную пасеку сгубить. Поеду в район, там разберутся». Он тут поостыл, папиросочку даже предложил, чтоб я успокоился. Вот ить дела какие, Иван Петрович.
Старик немножко помолчал и выбил из трубки пепел о свою деревянную ногу.
— Понимаешь, Иван Петрович, этот Рогачев не раз и не два приезжал на пасеку встряхнуться с друзьями, иной раз и с подругами. Куражлив: достань ему из улья сотового меду, поджарь свежих карасей. А по имени-отчеству никогда не повеличает: сторож, старик… Он хотел даровщиной попользоваться, дескать, поставит здесь свои ульи, мы обрадуемся, как же: начальник осчастливил нас! От радости запрыгаем. Будем ухаживать за его пчелами. А шиш не хотел? Меня, брат, не напугаешь чином!
Кузьма Власович погрозил в пространство кулаком. Я улыбнулся про себя. Он снова набил трубку табаком.
— Знаешь, Иван Петрович, что я заметил? Там… Прошел я около рогачевских ульев и чую, прет от них кислым духом, вроде столярным клеем. А мой нос по этой части не проведешь. Смекаешь, куда клоню?
— Смекаю, Кузьма Власович. Видно, американским гнильцом болеют его пчелы.
Я схватил сетку и побежал к рогачевской пасеке. Проверил несколько ульев и во всех обнаружил гнилец.
— Как быть, Кузьма Власович? Заразят наших.
— Надо меры принимать… Падай на лошадь и гоняй обратно, — сказал сторож.
Пришлось взнуздать Серка и верхом мчаться в город, в ветеринарную лечебницу. Главный врач, пожилая женщина с усталым лицом, внимательно выслушала меня и, зевнув, спросила:
— Ну, и что вы думаете делать?
— Как что? — удивился я. — Есть закон об охране пчел. Рогачев должен убрать свои ульи. Вы разрешали ему?
— Нет, — сказала она скучно. — Я подчиняюсь Рогачеву. А он человек своенравный. Вы понимаете меня?
— Нет, не понимаю. Отсюда я пойду в райисполком.
Женщина посмотрела на меня долгим взглядом, видимо, оценивая, способен ли я это сделать.
— Привыкли жаловаться, — она взяла телефонную трубку, подула в нее.
— Начальника управления. Петр Яковлевич? Ваши пчелы где находятся? Около совхозной пасеки? Надо убрать их. Вот пришли с протестом.
Слышно было, что Рогачев ужасно вспылил и, не разобравшись в чем дело, начал разносить ветеринарного врача. Она отвела трубку подальше от уха и улыбнулась, кивнув головой на телефон…
— Видите? Сейчас ему бесполезно возражать. Он, когда рассердится, все равно, что токующий глухарь, — ничего не слышит. Пусть покричит.
А трубка все свирепствовала, потом замолкла.
— Алло, алло! — послышалось. — Вы слушаете? Где вы, черт возьми…
— Да, я у телефона, Петр Яковлевич. Так… так… так… Здесь совхозный пчеловод. Вот передо мной стоит. Ваши пчелы заражены гнильцом. Он проверил. Нет, не пойдет к вам. Так и заявил. Собирается жаловаться в райисполком.
— Шут с ним. Завтра уберу. Скажи ему, что он наглец…
Женщина положила трубку.
— Ну вот, слышали. Кажется, конфликт исчерпан.
Термометр в тени показывает двадцать семь градусов. Контрольный улей дает привес. Есть небольшой взяток. Нужен дождь. Я записываю это в пасечный журнал.
Мы полностью открыли летки у всех ульев. Для проветривания. Очень много пчел сидят у поилки на доске, по которой из бочки бежит вода. Кузьма Власович сменил воду в кадке: старая уже начинала припахивать болотом.
Не успели присесть на крыльцо, как из одного улья вдруг посыпались на прилетную доску пчелы, будто их кто-то гнал изнутри метлой. Они зажужжали, закружились высоко над ульями. Вышел рой. Пчелы начали унизывать березовую ветку, повисшую над пряслом. Я зачерпнул из бочки воду, на ходу наломал веник и сбрызнул рой, который привился и висел на ветке широкой черной бородой. Когда обрызгивают, то пчелам кажется, что идет дождь, и поэтому, пока он идет, дальше лететь нельзя, надо переждать, обсохнуть, иначе все погибнут. Пчелы очень боятся сырости.
Кузьма Власович разжег дымарь. Я вынес из омшаника большой фанерный ящик, остановился у дверей и приподнял ящик так, что ветка с роем, как виноградная гроздь, оказалась внутри его. Резко ударил по ветке. Пчелы осыпались. Ящик осторожно опустил на землю и прикрыл фанерой так, чтобы осталась щель, куда могли бы залететь остальные пчелы. Потом Кузьма Власович унес рой в зимовник.
Под сеткой лицо потеет. Соленые, крупные, как горох, капли попадают на губы, скатываются за ворот. Жарко. Мы решили отдохнуть. Кузьма Власович задремал на кошме под березой. Я сижу рядом за столиком, читаю.
Над притихшим разморенным лесом и над озером синее небо выцвело. Солнце растворилось в белизне. Не видно диска. Вместо него полыхает в зените бесцветное пламя. Душно. Трава поникла.
На березе сидит грач. Широко раскрыв клюв, он очумело смотрит на землю, ищет прохладное местечко. Но и в тени душно. Хоть бы качнулось дерево, хоть бы шевельнулась травинка…
Через поляну пролетел черный шмель, заглушив все другие звуки густым бархатным басом. Он как камень плюхнулся в траву и затих.
Озеро такое же белесое, как и небо. Однообразный лягушиный переклик в заболоченных низинах похож на далекий колесный скрип сломанной телеги. Я отодвигаю книгу в сторону. Из-за леса со стороны города показалась пара гнедых, запряженных в ходок. В нем сидят двое: дородный казах и сухопарый Дабахов. Они не успели еще привязать лошадей в сторонке от пасеки, как следом появился на маленьком мотоцикле «Ковровец» щуплый старичок с мочалистой бородкой. Он подкатил к воротам нашей жердяной изгороди. А из просеки, где стоят рогачевские ульи, вынырнул грузовик. Шофер тоже подъехал к воротам. Засунув руки в брюки, важно выпятив живот, он подошел к Дмитрию Ивановичу, с которым уже разговаривал старичок. Все они гурьбой направились к нам. Я разбудил Кузьму Власовича.
— Гости к нам пожаловали.
— Кого там принесла нелегкая? — Он, держась за поясницу, приподнял голову. — Да тут целая ассамблея. Милости просим.
— Салям алейкум! Здравствуй, — сказал здоровенный казах, вытирая рукавом пот с лица. На нем был широкий, из коричневого вельвета костюм. На большой стриженой голове, почти на самой макушке, сидела маленькая, как блюдце, тюбетейка. Из-под густых свирепых бровей проницательно смотрели черные глаза.
— Здравствуй, Умербек! Зачем пожаловал? — спросил Кузьма Власович.
Теперь я окончательно узнал его. Когда мы вытаскивали Умербека из ямы, фигура его показалась мне не такой внушительной, как сейчас, и лицо менее добродушным.
— Дела есть, Кузьма Власович, — сказал он с приятным акцентом. — Беседовать мало-мало будем, с глаз на глаз.
— Да. Потом поговорим, — кивнул головой Дмитрий Иванович, солидно оттопырив губу и засунув руки за свой широкий ремень. Он не нашел нужным нас приветствовать. И это, я заметил, обидело Кузьму Власовича, но он не подал вида, а ласково посмотрел на незнакомого щупленького старичка. Тот пощупал свою мочалистую бородку и поклонился.
— Я пчеловод из Одоевского совхоза.
— Проходите все к домику, усаживайтесь в тени, — хлопотал Кузьма Власович. — А ты, Тюха, что косишься на Адама? Зачем приехал?
Шофер водил толстым «картофельным» носом по сторонам, словно принюхивался к чему-то.
— За рогачевскими ульями приехал. Полакомиться нашему брату есть чем?
— А вот так бы сразу и сказал. Я сейчас угощу тебя сотовым медком.
— А покрепче, дядя Кузя, что-нибудь есть? Ужасть, как голова болит. Угости медовухой.
Дмитрий Иванович снисходительно морщился, казах добродушно улыбался, а старичок с мочалистой бородкой похохатывал.
— Не занимаюсь медовухой, — отмахивался Кузьма Власович.
— Ну, ладно. Давай топай. Мед все же не вода. Правда, мужики?
— Знамо дело, — отозвался приезжий старичок.
Кузьма Власович пошел в омшаник. Тюха, подмигнув нам, нырнул в сени, схватил большую алюминиевую кружку и заглянул в кладовку, где стояла фляга с олифой. Он зачерпнул кружку желтоватой жидкости, с жадностью сделал большой глоток. И тут же выскочил на крыльцо, страшно сморщился.