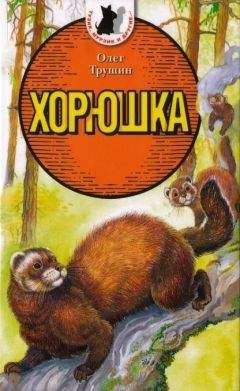– Шельма, вперед! – тихо приказал Калита, и собака, поскуливая, шмыгнула из люка, покачнулась на нетвердых лапах, встряхнулась всем телом, будто только что вылезла из воды. – Вперед, Шельма! Ищи.
Поводок натянулся, и сержант пошел за собакой. Следом осторожно двинулся расчет. Я взял себе правую сторону. Горелый остался позади.
– Если найдете – зовите… – бросил он вдогонку.
Мы начали все сначала.
– Кажется, есть, – послышался хриплый голос Калиты.
Шельма волновалась, скулила: почуяла взрывчатку. Умная собака – большое дело. Был у нас бестолковый пес: найдет мину и начинает рыть. Инициативный. Подорвался вскоре.
В темноте Калита и собака еле различимы. Я иду к ним.
– Осторожнее, товарищ лейтенант. Здесь…
– Хорошо… Двигайтесь дальше. Я тут сам разберусь.
Опускаюсь на корточки, чувствую, как учащается дыхание, колотится сердце и потеют ладони. Температура моего тела повышается на несколько градусов, а весу в конце концов теряю столько же, сколько весит мина.
– Егор! – зову громким шепотом. – Овчарова ко мне. Батарейки сели.
Появляется Овчаров, он шумно сопит, каска закрывает ему пол-лица. Теперь он займет место умершего от ран Усманова – солдата по кличке Самолет.
– Становись сюда – и ни с места. А то взлетим. Давай одеяло.
Овчаров старательно держит разукрашенное восточным орнаментом одеяло, и за этим экраном я включаю фонарик, кладу его на землю. Не очень надежная маскировка, но другого не придумаешь.
В желтом пятне света пыль почти белая, она покрывает мои руки, расползается под лезвием ножа. Овчаров уже не сопит, и я благодарен ему. Наверное, все, что я сейчас делаю, вызывает у него священное благоговение. Неожиданно проглядывает кусок бледного целлофана. Я откладываю нож, говорю бойцу «стой тихо» и еще осторожней расчищаю пыль. Одеяло слегка подрагивает. Под целлофаном две деревянные дощечки, похожие на паркетины. Мне кажется, что сейчас даже пыль может вспыхнуть, как порох. Проводки. Двумя пальцами аккуратно приподнимаю «паркетинки». Между ними пружинка и два болта с проводками. Все ясно… Каменный век. Для «Мурзилки». Проводки тонкие, ведут к камням. Я расчищаю бороздку, за мной тенью, как тореадор, ступает Овчаров. Странная игра захватила и его, игра, в которой не защитишься куском ткани. Я расчищаю землю вокруг камней, проклинаю затупившийся нож. Но лопаткой работать не люблю. Не ювелирно.
Наконец обнаруживаю, что искал. Грязный серый мешок. В какие-то мгновения я действую почти автоматически. Сердце клокочет, не хватает воздуха. В голове волчком вертится одно и то же: «Все ясно. Все ясно…» С трудом раздираю мешок. Внутри – взрывчатка с термитом. Подрывать на месте нельзя: дорога. Набираю полные ладони – и вниз, в пропасть. Выбросил полмешка. От рук исходит чуть слышный запах тротила.
– Давай «кошку». Этого хватит…
Выключаю фонарь, сажусь на камень, жду. Сил нет даже для того, чтобы отчитать бойца за то, что не захватил «кошку» сразу.
Овчаров возвращается вместе с командиром.
– Что у тебя?
– Фугас. Как раз под днищем бы рвануло.
Он осматривает деревянные дощечки, протягивает их Овчарову:
– Забери, пригодятся.
Я поддакиваю: «угу». У нас в роте общими усилиями собран небольшой музей всякого вида мин, взрывателей, «сюрпризов», ловушек, замыкателей, систем фугасов.
Мы отходим, залегаем в колею. Ротный далеко впереди.
– На, тащи, только не нервно.
Овчаров тянет веревку. Тихо.
Рассыпанная взрывчатка, драный мешок. Осматриваю детонатор. Овчаров подсвечивает. Сбоку – иероглифы: китайское производство.
И вдруг меня словно ледяным душем обдает. Я шумно выдыхаю, чувствуя, как ползут по спине и по лицу крупные капли.
– Что с вами, товарищ старший лейтенант?
– Черт, совершенно не помню, как резал проводки: по одному или сразу!
– Если бы сразу, то… взорвались? – лепечет Овчаров.
– Догадлив…
Когда снял мину или хитроумный фугас, когда опасность уже позади, всегда испытываешь злорадное чувство: пусть не думают, что на дурачков нарвались!
Впереди на дороге неясные тени. Мы идем им навстречу.
– Эй, а ну, назад! – сипит Горелый.
Опускаемся на землю. Ждем десять минут, пятнадцать.
Хочется курить, но я сдерживаю себя. Стоит только начать – все повально зачиркают спичками. Наконец – шаги. Глухие, утопающие в этой проклятой пыли.
– Давненько мне не попадалась эта дрянь, – из темноты возникает Горелый, со злостью бросает на землю металлическую сетку. Это обычная проволочная сетка с мелкими ячейками. Такие иногда ставят на окна. Коварная штука эта известна каждому саперу. Кладутся две сетки, между ними полиэтиленовая прослойка-изолятор. От каждой сетки – провода на взрыватель. Проткнул обе сетки щупом – и замкнул цепь. Взрыв.
– Овчаров, потом захватишь и это барахло. Пошли!
Мы прощупали до конца всю «полочку».
А внизу уже виднелась колонна, навстречу нам плыли пятна рассеянного света, где-то там сидел комбат Сычев и наверняка требовал увеличить обороты. Несколько минут ранее он выходил на связь, и ротный сказал ему: «Зеленый свет». А где-то в центре колонны сидели наши девчата-медсестрички, тряслись вместе со своим аптечным скарбом, бинтами, жгутами и шприцами и, наверное, загадывали суеверно желание, надеясь, что все кончится в эту ночь счастливо и хорошо. Что говорить, даже мужчины становились суеверными на этой войне, кто стыдливо, а кто и напоказ носили амулеты, верили всяким чудным приметам.
Перед «чертовой полочкой» колонна замерла. Настороженно урчали двигатели машин, слышались испуганные голоса афганцев-водителей.
Мы с Горелым, взмокшие и грязные, ждали с видом хозяев, измотанных и обессиленных приготовлениями и уже не радующихся своим гостям.
Из темноты выплыла тень, мы услышали голос комбата:
– Ну что, готово?
– Принимай, командир…
– Ну, тогда сам садись в первый бронетранспортер.
– Кого пугаешь? Мои уже на той стороне, – проворчал Горелый и полез на броню.
Я обиделся и полез вслед за ним. Мог бы и спасибо сказать. Коню понятно, если даже мина и осталась, то взорваться она может где угодно: хоть под первой, хоть под последней машиной.
– Включай фары! – крикнул комбат и тоже полез к нам на броню. – Накололи духов. Трогай!
Наш бэтээр пошел сначала тихо и неуверенно, но потом водитель осмелел, и машина с тугим ревом поползла, притираясь к стеночке. Через минуту мы были на большой дороге. За нами шел второй, третий бронетранспортер, колонна осторожно, «на цыпочках» выбиралась из этого проклятого места.
И тут случилось то, чего боялся каждый человек, который ехал сейчас в колонне: где-то внизу раздался жуткий в своей обыкновенности звук – грохот, треск сминаемого металла слились в один недолгий стон. Послышались приглушенные расстоянием крики. Нас как ветром сдуло с брони. Горелый бросился к краю пропасти, я вслед за ним. Далеко внизу пылал костер, яркое пламя не оставляло сомнений: горел бензин.
– Грузовик, грузовик сорвался!
– А, черт!
Слышались возбужденные крики, в ночи зазвенел комбатовский мат.
Он тоже кинулся к пропасти, некоторое время смотрел на огонь, в тусклом свете фар лицо его казалось старым и жестоким.
– По машинам! Почему остановились?! Сколько там? – уже тише спросил он у Горелого. – Метров двести будет?
– Метров триста, – глухо ответил Егор.
– Вдребезги.
Он полез на бронетранспортер, стал кричать в ларингофон:
– Не останавливаться, черт возьми! Смотреть в оба!
Самое страшное на войне – перестать замечать ее ужасы.
С перевала мы спускались на рассвете.
– Горючки осталось только-только, – проронил Егор негромко, будто обращаясь к себе. – Надо бы заправиться.
У меня безудержно слипались глаза, а голова безвольно раскачивалась, будто крепилась на одном гвозде. Одежда пропотела насквозь и стала настолько грязной, что испачкать ее уже было невозможно. Но о помывке мечтать не приходилось. Руки мои стали шершавыми и жесткими, как подошва, приобрели неживой серый оттенок, из трещинок на коже сочилась кровь. Я из последних сил крепился, держась за башенный пулемет. Дорога убаюкивает. А Горелый, хоть и сидел с красными, как у окуня, глазами, был бодр и подвижен, вертел головой. Он никогда не верил горной тишине. Он всегда был настороже. Я завидовал Горелому. Я почему-то всегда ему завидовал. Это меня раздражало, я мысленно плевался от таких жалких мыслей, и спать уже хотелось меньше.
Здесь – сопки. Где-то на равнине их можно было бы назвать горами, а тут, в Афгане, – это просто сопки. Куцая растительность – клочки верблюжьей колючки – неподвижно торчит под зноем и как-то еще живет.
Мы едем вдоль заброшенного кишлака. Часто из таких развалин летят пули, молнией сверкает граната, выпущенная из базуки. Кишлак вытаращился на нас пустыми глазницами. Где его жители – в Пакистане?