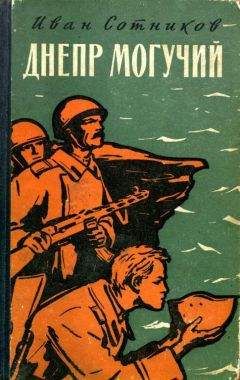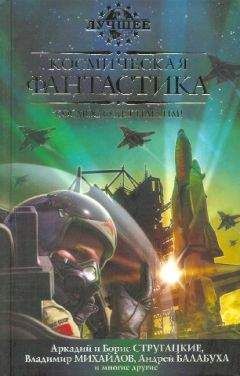— Умрет.
— А надо, чтоб жил он и боролся.
— Нельзя же только беречь жизнь, — доказывал Валей.
— Нет, нужно и должно.
— И страшиться смерти… — добавил Самохин.
— Беречь жизнь для борьбы, — продолжал Березин, — и ради этого презирать смерть, а не кичиться готовностью помереть.
— А помните: лучше умереть стоя, чем жить на коленях, — напомнил Леон. — И потом, это же дух поднимает.
— Что?
— Ну, когда человек собой жертвует.
— «Жертвует» — слово-то такое! — поморщился Березин. — Не это дух поднимает, а борьба, успех, победа, ненависть к врагу, сознание правоты своего дела — вот что дух поднимает. Умереть проще простого. А ты выживи и — победи! Вынеси невыносимое и — победи!
— Тогда, кажись, загнул я, — сдался, наконец, Самохин. — В самом деле, не смерть же вершит дело.
Капустин отодвинул пустой котелок и принялся за чай.
— Все слова и слова, — уныло кивнул он на стену, из-за которой доносились голоса споривших. — А война проще и грязнее…
— Нет, чище, — заспорил Жаров. — Они все правы, кроме Самохина. Только и тот сдался.
— Нет, с жизнью человек не расстается запросто. Это не пуговица тебе от пиджака: оборвалась — пришил новую. Сто раз передумаешь, выбирая жизнь или подвиг.
— Это шкурная постановка вопроса. Сколько примеров, когда человек, не раздумывая, выбирает не жизнь, а подвиг. Вспомним хоть Матросова. А таких тысячи.
— А я так думаю, приперли тебя к стене, и ты либо помирай, либо геройствуй, но все равно помирай. Вот и подвиг!
— Выходит, подвиг — лишь жертва. Нет! Сила души, способной на невозможное, — вот что такое подвиг. И не страх смерти делает человека героем, а вера, несокрушимая вера в победу. Я так думаю.
Капустин поднялся из-за стола и стал стягивать с сутулых плеч гимнастерку. Улегся на солому, зевнул и снова уныло повторил:
— Эх, все слова. Лозунги!
А Жарову почему-то очень жалко стало, что Капустину не пришлось быть там, у станции Тетерев.
1
Вой низвергавшихся с неба мин пригнул к земле атакующих, сильно замедлил их бег. «Не иначе из шестиствольных», — решил про себя Самохин и привычным взглядом окинул свой взвод. Прислушиваясь, запрокинул голову и тут же понял: они упадут здесь, упадут сейчас.
— Ложись! — крикнул он во весь голос.
Цепь как ветром сдуло, и все уткнулись в землю. Самохин облегченно вздохнул, вытер рукавом взмокший лоб и, не успев залечь сам, был подхвачен горячей волной. «Прихватили, гады, — скрипнул Леон зубами, ощущая странную невесомость ставшего вдруг непослушным тела.
— Товарищ лейтенант, — подскочил к нему Валей Шакиров, — вы ранены? Дайте перевяжу.
— Вперед! — приподымаясь на локтях, взревел Самохин, ясно сознавая важность и необходимость этой команды. — Вперед, в атаку! — И почувствовал: правую ногу свело от режущей боли.
— Я сейчас, сейчас, — запыхавшись, твердил склонившийся над ним Шакиров.
Но Самохин искреннее желание Шакирова помочь командиру принял за попытку задержаться тут, не исполнить его команду.
— Я те отсижусь, сукин сын! — превозмогая боль, закричал он на сержанта. — Вперед, говорю!
Плохо, если, случись, незаслуженно обидит друг. Тяжко, если изменит любимая. Но горше всего, когда несправедлив командир. Твой командир! Вот почему, выронив из рук уже приготовленный индивидуальный пакет, Шакиров отпрянул, как от удара. Лицо его побелело, глаза сузились и губы дрогнули от незаслуженной обиды. И все-таки попробовал объясниться.
— Я ведь перевязать только…
— Без разговоров — в атаку! — неумолимо приказал командир, и Шакиров вдруг разглядел в его глазах полную отрешенность от всего, кроме этой атаки, способной захлебнуться, если только выпустить ее из своей воли.
Вместе со всеми в живой подвижной цепи Шакиров бросился на огонь вражеских пулеметов и автоматов.
— Помкомвзвода, принимай команду! — прокричал Леон вдогонку и уронил голову на черный снег. Впереди вспыхнуло раскатистое «ура» и послышались взрывы ручных гранат. «Хорошо пошли! — обрадовался Самохин, чуть приподняв будто налитую свинцом голову. — Очень хорошо».
Танки вместе с пехотой ворвались на позиции немцев. Облегченно вздохнув, Леон оглянулся назад и сразу зажмурил глаза. Из-за горизонта вставало ослепительное солнце. «Солнце победы», — подумал он, щурясь и из-под руки пытаясь рассмотреть происходящее в тылу. Орудия прямой наводки снимались с места, поспевая за пехотой. Все шло как надо. Вдруг металлический скрежет и вой снова резанули слух. Опять из шестиствольных! Вой мин нарастал осатанело, смертельная тоска охватила Леона. Он как можно плотнее прижался к мокрой холодной земле, уцепившись руками за низкорослый кустик можжевельника. Взрывом его подбросило вверх, и от страшной, нечеловеческой боли в ногах снова занемело все вдруг одубевшее тело. Когда же он с силой грохнулся наземь, перед глазами поплыли огненные кольца. Они двоились, троились, нанизывались одно на другое, разгорались все ярче и ярче, потом разом померкли. «Убит или только ранен?» — мелькнуло в его сознании, едва способном воспринимать окружающее.
2
…Очнувшись, Самохин долго не мог вспомнить, что же случилось. Напрягая память, он с час пролежал на мокрой земле и продрог до костей. Кроме холода, он ничего не чувствовал. Клонило ко сну. Тогда он резким движением занемевших рук отбросил в сторону вырванный с корнем чахлый кустик можжевельника и протер глаза. Память, уцепившаяся за этот кустик, неохотно воскрешала происшедшее. Большое солнце висело над горизонтом. Солнце! Он быстро оглянулся назад. Вон лес, из-за которого оно поднималось, когда началась атака. Сначала ему показалось — ничего не изменилось вокруг. Так же голубело небо и где-то за холмом шел бой. Значит, продвинулись. Только теперь солнце-то не сзади, а за холмом спереди, где шел бой. Эге, удивился Самохин, крепко его долбануло, если он беспамятствовал почти целый день. Очень крепко. Но что же с ним? Ах, ранен. Шакиров хотел перевязать, а он прогнал его. Потом еще оглушило. Попробовал было шевельнуться и не смог. Жестокая, нечеловеческая боль сразу отняла силы. Все туловище, руки, шея казались омертвелыми, ничего не чувствующими. Боль в ногах ниже колен. Что такое? Он с трудом чуть приподнялся на локтях и сейчас же опустился. По телу прошел игольчатый ток, и снова режущая боль в ногах. Не уйти ему, не выбраться. И вдруг ощутил жажду. Пить, пить, пить! Он лежал на мокром снегу, перемешанном с землей. Конечно, им можно унять жажду. Он взял в рот полную горсть снега и сразу закашлялся. Во рту стало горько, шершаво от песка и земли, подкатила судорожная тошнота. Он долго отплевывался. А поодаль лежал, казалось, чистый белый снег. Пить! Ой как же хочется пить!
Леон огляделся. Справа стояла разбитая «тридцатьчетверка». Откуда она? Ее же не было тут. Дальше — с развороченной башней «тигр». Только теперь Самохин увидел мертвые тела. Многие в зеленых шинелях. Немцы! Чуть позади валялась разбитая пушка. Вот оно что… Да тут кипел бой! Контратаковали, значит. И никого из живых. Он крикнул как можно громче. Тихо. Совсем тихо. Раненые убраны. Выходит, его сочли убитым. Что же это такое? Кто теперь выручит его? Он просто умирает от нестерпимой жажды.
Леон уронил голову на обессиленные руки и, беспомощный, прислушивался к тому, что происходит вокруг. За пологим холмом бой стихал. Немцы, видно, смяты, хотя и отстреливаются. Справа, из леса, резанул немецкий пулемет. Залпом ударила батарея. Потом еще и еще. Хищно пронеслись «мессеры». Земля охнула, как живая. От обжигающей боли снова помутилась голова и все тело задрожало в смертельном ознобе. Мучительно хотелось пить. Неужели ему умереть тут, брошенному и забытому всеми?
Опять усилилась перестрелка, и раненый приподнял голову. Перестрелка приближалась. Он тревожно оглянулся. Никого! По спине снова скользнул знобкий холодок. Одному не уйти. Леон огляделся, прислушался. Что такое? Сквозь низкий приземистый кустарник на четвереньках пробирался солдат. Временами он приостанавливался, слегка приподымая голову и оглядываясь по сторонам. Минуту спустя Самохин узнал Шакирова и обрадованно вскрикнул.
— Правую, видать, насовсем, двинуться не могу, — прохрипел Самохин, когда над ним склонилось озабоченное лицо Шакирова.
— Ой-ей! — ужаснулся Валей, и в черных встревоженных глазах его разом отразились испуг и сострадание. — Кровищи-то сколько… Я перевяжу сейчас, — заторопился он, доставая бинт.
— Пить! — прохрипел раненый. — Нутро горит. Пить!
— Это мигом, товарищ лейтенант, — поспешно расстегивая ремень, уже снимал Валей флягу.
Самохин воспаленными губами припал к горлышку, а Шакиров тем временем сноровисто распорол ему сапог и начал осторожно перевязывать ногу. Раненый застонал.