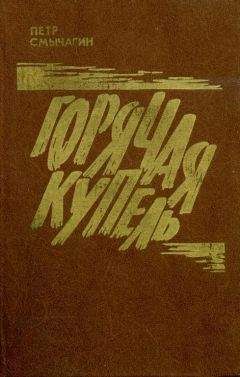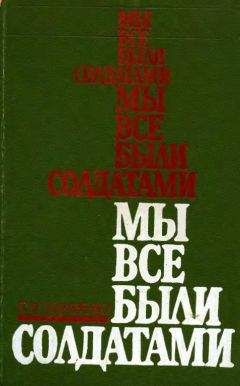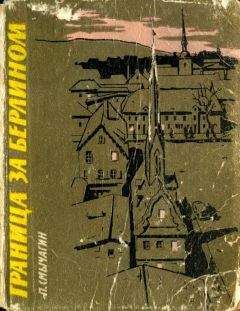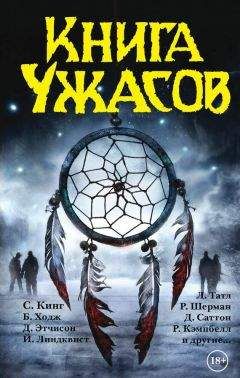...И вдруг Верочка, легонько простонав, приоткрыла глаза. Она долго смотрит в безоблачное небо, глубоко дышит, будто желая вобрать в себя всю благодать весны. Глаза открылись шире — увидела Батова.
— Где мы, Леша? — одними губами с трудом произнесла она. Несмотря на грохот телеги, Батов хорошо расслышал вопрос.
— В Германии, Верочка, — пошутил он. — Везем тебя в госпиталь.
— Как это — в госпиталь? Зачем?
— Лечиться.
— А кто с нами едет? — спросила она громче, натужным голосом.
— Да то ж я, ласточка! — повернулся возница. — Чи ты не взнала Михеича?
— Узнала, — отчужденно и тихо проговорила она, поведя языком по запекшимся губам. — Вода... есть?
— А как же! Есть вода. И шпирт, и, если б помогло, вино есть. Да такое, какое цари да короли только по праздникам пьют.
Батов помог Верочке приподняться, поднес к ее губам баклажку. Но она взяла посудину в свою руку, отпила несколько больших глотков и откинулась назад, благодарно посмотрев на него.
— Теперь все пройдет, милый, — вырвалось у Верочки, а Батов прикусил губу. Лицо загорелось. Если бы это сказала ему Зина Белоногова, то он просто не обратил бы внимания, потому что она могла так сказать кому угодно. Верочка такими словами не бросалась.
— Это верно, что мы в тыл едем, Леша? — спохватившись, более холодно спросила она.
— Верно. Как и то, что ты ранена.
— Я не ранена, — смутилась она, пошевелив ногами и руками. — Видишь, все в порядке.
— А кто говорил: «Лучше бы... совсем»?
— Ой, Леша, ты меня разыгрываешь. Неужели я так сказала?
— Так и сказала. И до смерти напугала, когда от воронки тащил.
— Так куда же мы едем? — прервала она разговор.
— В госпиталь...
— А что, госпиталь на Эльбе разве?
— Почему на Эльбе? — не понял Батов, куда она клонит.
— Потому что мы на запад едем, — засмеялась Верочка. — Меня не проведешь!
Батов понял, что разоблачен, и тоже засмеялся. Но тут она заметила, что гимнастерка распахнута, прикрыла грудь ладонью, нащупала разрезанный бюстгальтер, нахмурилась.
— Это — ты? — спросила она строго.
— Я, Верочка.
Вздохнув, застегнула три нижние пуговицы. Лицо сделалось суровым и неприступным.
— А вы, товарищ лейтенант, почему здесь?
— С тобой побыть захотелось, — еще продолжал шутить Батов, но понял, что Верочка становится «товарищем сержантом Шапкиной».
— Без шуток! — повысила она голос. — Вы кто, санитарка? Сиделка?
— Допустим, сиделка...
— Нет, вы — строевой командир или сестра милосердия?
— Успокойтесь, товарищ сержант Шапкина, — стараясь быть серьезным, назидательно сказал Батов. — Вам вредно сейчас волноваться.
— Офицер должен быть впереди, а не в обозе на последней повозке!
— Да разве ж можно с офицером так разговаривать, Верочка? — подал свой голос Михеич. — Ты не забывай и о рангах.
На Батова последние слова Верочки и особенно тон, которым они были сказаны, произвели впечатление, похожее на ледяной душ. Ему и на самом деле показалось,, что он чуть ли не умышленно попал на эту последнюю повозку в обозе. И тут же вспомнились слова Юры Гусева: «Роковой ты человек, Лешка». Роковой или не роковой, а дознайся об этом путешествии Крюков — опять хлопот не оберешься. Снова начнутся подозрения, намеки, расспросы...
Батов погрустнел и замолчал. Он с тоской посмотрел на Верочку и повернулся на сиденье лицом вперед. Теперь молчат все, каждый думает о своем.
Верочка сердится уже не на Батова, а на свой язык. Слова всегда выскакивают раньше, чем она успевает подумать, что надо сказать, а чего и не следовало бы. Сейчас ей жалко Батова и немножко — себя.
А думы Михеича по Украине бродят. Есть у него дочка. Такая же шустрая, как Верочка. И по возрасту такая же. До войны в Днепропетровске училась. Есть сын, на год помладше. Тоже уезжал из дому на курсы. Да еще две дочки есть. Все они собрались теперь в родном селе возле матери. Об этом ему написала Марфа, жена. Первое письмо от нее недавно получил. После оккупации кое-как разыскал.
Есть у него еще сын, самый старший, Степан. Да есть ли он? Марфа пишет, что ушел в армию вскоре после него, Михеича. Ни одного письма от него не получали, и теперь ничего не известно. И бродят мысли старого солдата по Украине, вертясь вокруг родного колхоза, который представляется таким, каким был до войны. А Марфа пишет, что узнать его невозможно — все погубили фашисты. Теперь заново отстраиваться начали...
И бегут мысли Михеича по необъятной фронтовой шири в поисках сына, родной кровинки. Может быть, потому у него и к Батову появляется какая-то отцовская теплота. И эти чужие молодые люди начинают казаться родными детьми.
Сколько лет прошло, сколько боев минуло! А сколько народу погибло — того и перечислить невозможно. Трудно надеяться на то, что Степан жив. Однако ж и то сказать, сам Михеич с первых месяцев войны — на фронте. Два раза, правда, смерть к нему подбиралась, и в госпитале побывал... Ну, так ведь то сам Михеич — у него опыт с первой мировой войны копится. Оно, конечно, снаряд или мина не разбирают, у кого какой опыт, кто сколько войн прошел и кому сколько лет стукнуло. Но все же опыт — великое дело. Зеленая молодежь и по своей глупости часто погибель себе находит.
Вот же и суди после всего этого — жив Степан или погиб неизвестно где. У кого семьи на месте оставались; тем и письма надежней шли...
Внезапно сзади, совсем близко, раздался автомобильный сигнал. Мимо повозки, обогнав ее, проскочил старенький ЗИС с цистерной.
Батов досадует: как не расслышал приближения машины! С ней бы можно очень скоро догнать своих. Ясно, что машина с горючим для танков идет. Но раз прошла одна — может пойти и другая. Следующего такого случая пропускать нельзя.
Батов снова поворачивается к Верочке: если появится машина, он издали заметит, а когда подойдет — остановит.
«Ага, — думает Верочка, — повернулся. Может быть, он не очень обиделся?.. А если бы мне так сказали, как я ему — обиделась бы? Конечно! Я бы рассердилась...»
— Михеич, вы хорошо запомнили название конечного пункта? — спросил Батов.
— Чего ж бы я его запоминал. У вас же карта есть, и все пункты в ней обозначены.
— Но ведь когда не было меня, вы ехали и без карты.
— Тю, язык до Берлина доведет... Освал, чи как его там?
— Оствальд, — уточнил Батов. — Неправильно спросите — неправильно и ответят.
— Лишь бы до фрица не попасть, а так все равно в своей армии будем.
Это он только так говорит, а сам понимает, что говорит неправду. Оторваться от своей части, от старых боевых друзей не легче, чем от родной семьи. Все это знают. И Михеич хорошо знает, а сказал так, чтобы оправдать свою забывчивость. Он ночи спать не будет и расспросит всех и запомнит все, а своих найдет непременно.
Батов выскочил из повозки, остановился посреди дороги, поднял руку.
— Чего вы надумали? — сердито крикнул Михеич, придержав коня и обернувшись назад. Верочка приподнялась на локтях и тоже недоуменно смотрит на Батова.
Машина поравнялась с повозкой. Затормозила. Из кабины высунулась вихрастая голова с курносым рябым лицом.
— Куда едешь? — спросил Батов.
— Военная тайна, — бойко отрапортовала голова, весело улыбаясь и сильно окая.
— А чего везешь? — решил Батов до конца разыграть общеизвестную военную присказку, начатую шофером.
— Снаряды танкистам, — хохочет голова от удовольствия, что шутка понята.
— Да ведь ты же тайну выдал!
— Братьям-славянам такую тайну выдать можно. А фрицы сами догадаются, ежели к ним попадешь, — все так же смеется голова и открывает дверцу кабины. — Садись, лейтенант, живо докачу. Отстал, что ли?
Шофер говорит очень быстро, захлебываясь лавиной слов.
— Счастливо добраться! — машет Батов рукой Михеичу и Верочке, становясь на крыло.
Машина тронулась. Шофер проводил внимательным взглядом повозку, оставшуюся за бортом. Лицо его сделалось вдруг серьезным, даже суровым, будто туча на него накатила.
— Девка-то вроде того... Заревела.
— Какая девка? — не понял Батов.
— Ну, да в повозке-то. Уж забыл, что ли? Поди, окрутил да укатил.
— Нет, не окрутил, — вздохнул Батов. — Контужена она. Никто ее не окрутит.
— Хоро́ша, видать, девка.
Машина быстро бежит, оставляя километр за километром. Проехали деревню. Дорога приподнялась на небольшой холм и вильнула вправо, спускаясь по склону и теряясь в полях. Земля парит под солнцем, сошедшим уже с полуденной высоты. Ни одного пахаря, ни единого сеятеля не видно. Пусто. Свежий ветер врывается под открытое лобовое стекло и свободно вылетает в боковые окна, завихривается в кабине, приятно путаясь в волосах на затылке.
Внизу снова видна деревня. По дороге к ней тянется обоз. Впереди — артиллерия.