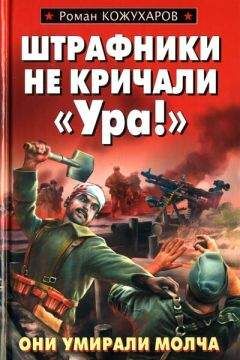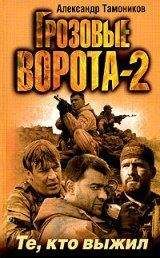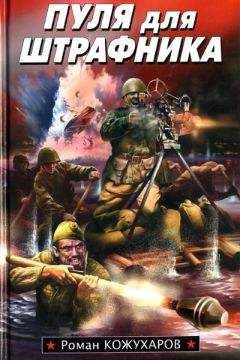Отто вдруг ощутил необъяснимый стыд. Глупее ничего нельзя было придумать. Эдип и античная трагедия в изложении Клайна остались где-то в прошлой, канувшей в Лету жизни. Он находился здесь, между жизнью и смертью, в разрушенном городе, посреди которого умирал, истекая болью и кровью, его товарищ Штрехмель.
Но Хагена жгло чувство нестерпимого стыда, как будто наказание, напророченное учителем литературы Клайном, наконец настигло его, и всему виной – его глупое, ребяческое поведение в том, безвозвратно далеком, мирном, школьном детстве.
Отто кривлялся и хохотал над рассуждениями Кристофа Клайна о трагедии, не подозревая, что сам окажется участником страшной трагедии, которая совершается без конца, дни и ночи, и в этой жуткой пьесе ему и его товарищам отведена роль не героев, а жалких статистов, обреченных на безъязыкие муки и вой – животный, кровавый, переходящий в хрипящие, булькающие всхлипы.
– Хаген, я не могу… Хаген… – дергая за рукав Отто, забормотал Вейсенбергер.
– Что ты не можешь? – механически-бесчувственным голосом проговорил в ответ Отто.
– Не могу слышать его… Не могу… – Вейсенбергер начал дышать часто-часто, так, будто он задыхается. Руки его задергались, словно в нервном припадке.
– Ну, так сделай что-нибудь… – устало произнес Отто. Он сказал это помимо своей воли. Губы и язык сами вытолкнули изо рта слово за словом. Он как будто подсказывал Вейсенбергеру, что именно надо сделать. В интонации его голоса уже был сформулирован недвусмысленный намек, как избавиться от навязчивого кошмара, который происходил не с Эдипом на сцене, а с ними наяву.
И Вейсенбергер понял. Он был далеко не дурак. Руки его вдруг перестали припадочно шнырять по шинели и замерли. Но в его столбняке было больше сумасшествия, чем в нервических дерганьях.
– Нет… ты что… я не могу, не могу… – замотал головой Вейсенбергер, будто его под дулом заставляли сотворить нечто немыслимое.
– А когда девочку и женщину… там, на поле? – спросил тем же усталым голосом Отто. – Та м ты смог…
– Не-ет… – замотал головой Вейсенбергер, снова задергавшись. – Там был приказ, приказ… Там был приказ… Нет, я не могу…
– Тебя справедливо разжаловали, Вейсенбергер… – зло прошептал Хаген. – Я бы на месте гауптмана отправил тебя в штрафной лагерь. Там место таким слизнякам, как ты…
Произнеся последние слова, Отто резко повернулся к мешкам и уложил свой карабин на парчовое ложе, в специально сделанное углубление. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы поймать на мушку распластанную по мостовой фигуру Штрехмеля. Выцеливать по рыжей копне волос было очень удобно. На движение фаланги указательного пальца времени понадобилось больше. Отто не заметил, сколько. Ему показалось – целая вечность. Века – от античности до этого хмурого февральского дня.
Точный выстрел замазал рыжее пятно разляпистой красно-бурой кляксой.
«Когда Эдип, закалывая себя, шептал предсмертные слова, зрители отчетливо его слышали в последних рядах амфитеатра…»
Вдруг взрыв потряс внешнюю стену дома. Осколки щебня и вывороченных камней в облаке пыли посыпалась вниз перед глазами Отто и Вейсенбергера. Они не заметили, как русские подкатили к углу сорокапятимиллиметровую пушку. Снаряд угодил куда-то вверх. Наверное, враг старался уничтожить пулеметную точку Харрингера.
Второй выстрел из вражеской «сорокапятки» стрелки, засевшие на первом этаже, уже хорошо видели. Потолок над их головами заходил ходуном от взрыва, и на головы просыпалась штукатурка.
Русские поддерживали действия своих артиллеристов плотным огнем из оконных проемов здания напротив. Пули щелкали по стенам, скалывая и вырывая куски обоев вместе с деревянными перекрытиями из стен, в щепки кромсая мебель.
Вейсенбергер отполз подальше от окна. Прижавшись к стене спиной, он испуганно озирался по сторонам, держа в руках свой «маузер». Приступ страха после гибели Штрехмеля у него стал еще сильнее.
Внутри здания, за дверным проемом, послышался неясный шум и топот. Вейсенбергер вскинул винтовку с застывшим на лице выражением немого ужаса. На пороге возник Крумм, подающий пулеметную ленту в расчете Харрингера. Он был весь, с головы до ног, покрыт слоем пыли.
Отто успел ударить по стволу винтовки Вейсенбергера. Выстрел ушел в потолок.
– Ты что делаешь?!.. Ты чуть не убил товарища!.. – закричал Хаген и в сердцах ударил Вейсенбергера по скуле. Тот безропотно принял удар. Было видно, что любая попытка достучаться до него в этот миг была обречена. Казалось, что он потерял связь с реальностью.
– Не кричи на меня! – вдруг завопил Вейсенбергер. – Ты сам только что убил Штрехмеля!..
Хаген не дал ему договорить.
– Ах ты, гад… – Отто нанес ему второй удар. Этот получился со всей силы. Вейсенбергер кубарем покатился по щебенке вдоль стены, пока не уперся в покрытый пылью, исцарапанный осколками шкаф.
– Трусливая крыса… – пытаясь умерить ярость, прорычал Отто. – Трусливая крыса…
– Чего вы затеяли?… – очумело прокричал Крумм. – Не время сейчас… Харрингер ранен. Скорее, уходить надо…
– Харрингер?… – переспросил Хаген. Позабыв о Вейсенбергере, он вслед за Круммом бросился по пролету наверх. Перила здесь еще сохранились. На втором этаже куски мебели и деревянные части перил горели, распространяя вокруг густой дым.
Харрингер лежал наискось, поперек комнаты, превращенной взрывами в разворошенный хаос. На ноге выделялась неестественно белая полоса бинта, по-видимому, наложенного Круммом. Неподалеку от Харрингера, на полу, валялся, торча сошками вверх, пулемет «МГ».
– Что с ним? – тревожно спросил Отто, подбегая к раненому.
– Плечо и нога… – деловито ответил Крумм. – Ногу я перевязал… У меня бинт закончился. В плече осколок. Здорово разворотило. Заткнул ему рану. У тебя есть бинт?
Харрингер, услышав голоса, открыл глаза и попытался приподняться. Лицо его исказилось от острой боли, и он беспомощно повалился обратно на пол.
Отто вытащил пачку бинта из сумки. Он увидел, как в глазах Харрингера мелькнул страх в тот момент, когда он подошел к нему.
– Я… в порядке… я выкарабкаюсь… – забормотал Харрингер. Неужели он испугался Хагена? Как будто тот пришел забрать его жизнь…
– Не бойся… я перевяжу рану… – попытался успокоить его Отто. Но Харрингер продолжал машинально отползать, пятясь.
В этот момент снаряд разворотил угол окна, наполнив комнату густым облаком пыли и раскаленных газов.
– Черт, надо убираться отсюда!.. – в отчаянии прокричал Крумм. – Скорее, Харрингер, нас тут к чертовой матери укокошат. Мы возьмем тебя с собой…
Харрингер будто не верил им. Он вдруг начал беззвучно плакать.
– Пожалуйста, не убивайте меня… Не оставляйте меня… – жалобно верещал он. Слышать его нытье было так же невыносимо, как предсмертный вой Штрехмеля.
– Заткнись, Харрингер… – зло проговорил Хаген. – Мы перевяжем тебя и возьмем с собой. Никто тебя не оставит. Только не надо ныть… Крепись…
Отто, разорвав пакет, начал перебинтовывать плечо Харрингера. Тот послушно умолк, стараясь проглатывать свои слезы.
Крумм, пригнувшись, подбежал к оконному проему и, осторожно выглянув, тут же отпрянул к боковой стене.
– Черт… черт…
– Что там? Что?… – спросил его Хаген, оставляя Харрингера.
– Там… там… Олхаузер… – запинаясь, с трудом выдохнул Крумм.
– Что?!.. – Хаген бросился к окну, на ходу подобрав с пола брошенный пулемет.
Олхаузера Хаген увидел сразу, как только выглянул через дымящуюся дыру в стене на перекресток. Тот бежал по перекрестью улиц, выписывая замысловатую «восьмерку». Он напоминал зайца, безнадежно затравленного несколькими гончими, которые распластались возле своей добычи на финише охоты, готовясь вот-вот вцепиться в шкурку жертвы зубами и растерзать ее в клочья.
В роли гончих выступали очереди сразу нескольких пулеметов, которые решетили трассирующими очередями брусчатку вокруг Олхаузера. Пробежав несколько шагов, он поскользнулся, подкатившись к афишной тумбе со снесенным верхом, которая стояла на ближнем к Отто углу.
Удивительно, как вражеские пули до сих пор не вонзились в Олхаузера. А может быть, они издевались, играя с ним в «кошки-мышки». Они наверняка знали, что эта жертва от них никуда не денется, и попросту оттягивали удовольствие убийства.
Хаген с криком, в котором смешались отчаяние и ярость, дернул рукоятку заряжания. Лента уже была заправлена в приемник, поэтому патрон выскочил из патронника. Отто нажал на спусковой крючок. Несколько коротких очередей ушли в сторону орудийного расчета.
До русской пушки было около ста пятидесяти метров, и Отто даже не выставлял прицел на пулемете, стреляя на глаз. Облачко бурой пыли окутало русскую «сорокапятку». С той стороны перекрестка донеслись неясные крики, а потом орудие сдвинулось с места и стало откатываться назад.