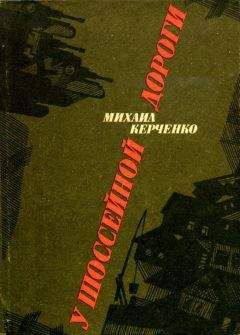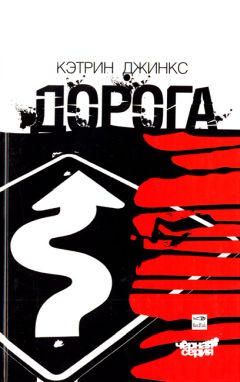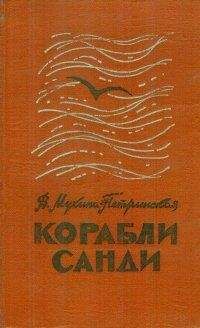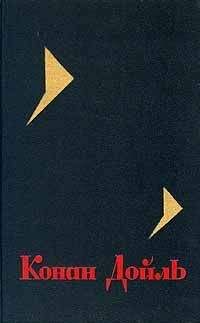— Есть хо-чет-ца! Вот здесь сосет.
— А ты почему шепотом, милая?
— Тетя Ариша, я не могу громче, сил нет.
Я отрезала ей ломоть от колхозной булки.
— Иди к соседям, попроси молочка. Всухомятку вредно есть.
— Не пойду. Там тоже дети…
И стала она наведываться ко мне каждый день. Не прогонишь ведь.
— Знаешь, Зоя, иди ко мне жить, будешь за детьми приглядывать, а я кормить тебя, одевать, обувать стану.
Пришла. Глянула я на ее голову, а она вся в струпьях, вши цепочками сидят на каждом волоске. Ужас! Истопила я баню, остригла Зою, отпарила в воде струпья, сняла их, как шапку, завернула в грязное платье, отнесла в огород и закопала в землю. Болячки на голове я лечила травянистым отваром, потом волосы отросли длинные, густые.
— Живи, — говорю, — Зоя. Корова доится хорошо, молока много, пей вволю, ешь хлеб, суп и доглядывай за детишками, только не обижай их.
Прижилась Зоя. Да так раздобрела, что стала дебелой, как невеста. Тут и мать отыскалась, явилась без сына, бросила его где-то. Удивилась она, что Зоя без нее так выросла и раздобрела: теперь не умрет, теперь ее можно заставить чертомелить как следует.
— Ты на кого работаешь? Про мать забыла, людям добро наживаешь, бесстыдница!
После свидания с матерью приходит ко мне Зоя. Стала у порога, опустила глаза вниз и говорит, еле сдерживая слезы:
— Тетя Ариша, я ухожу от вас насовсем.
— Что так?
— Мама забирает меня.
— На то она и мать. Ее право.
— Люди говорят, чтоб я поделила ваше хозяйство напополам.
Я обомлела.
— Какое хозяйство? Дом? Так ты его не строила.
— Корову, мама говорит, забери.
— Ты ее выкормила или хоть клок сена приготовила? Ухаживала за ней, Зоя?
— Нет, только молоко ела.
— Милая дочка, я тебя обую, одену из последнего, как могу, — и все. Коровка детям нужна, и без своей крыши нам не обойтись. Денег, сама знаешь, у меня нет.
Через месяц Зоя вернулась худая, грязная.
— Нянь (няней часто меня называла), возьми меня к себе обратно, бога ради.
— Нет. Поживи, дочка, своим умом. У тебя есть мать.
— Вчера она сошлась с вашим соседом Кирюшей. А меня прогнала.
— Вот как, тогда ступай в колхозную контору посыльной. Там есть каморка. Кровать поставишь. А в куске хлеба, в стакане молока никогда не откажу. Приходи в любой день, как своя.
Приехал к нам в деревню подросток, глухой как пень, и фамилия у него — Глухарь. Надо же! Где-то он на жестянщика выучился. Вызвал меня в контору председатель колхоза.
— Надо, Ариша, приютить парня у себя. Мастер он хороший.
— У меня что, приют? Своих хоть в детский дом отдавай.
— Он будет ночью колотить в мастерской, топить ее, а днем за твоими детьми доглядывать, помогать тебе.
Взяла. Так же, как и Зою, обиходила, в бане пропарила, прожарила. Ходит парень ночью в мастерскую, а днем домовничает. Удивительно то, что дети к нему привязались, слушались не хуже чем меня. Он всегда что-нибудь делал. Огород загородил, пригоны починил, крышу перекрыл. Ну, думаю, если этот будет уходить, так все заберет. Люди видят, что он не сидит сложа руки. Тоже четыре года прожил. Стала замечать, что иногда нет-нет, да и придет под мухой. Выпивать стал. Худо дело. Что-то с парнем не ладно. Свихнется. Бросил книги читать. А до этого каждый вечер нам вслух читал. Сказки всякие. Книг у меня было полно.
— Женить, — говорю, — тебя надо.
— Кому я нужен, глухой, — заплакал он.
— Душа-то у тебя не глухая, ты работящий и добрый человек. Грамотный.
И тут я вспомнила про Зою. Она в то время на ферме учетчицей работала.
— Вот, милая, тебе жениха нашла, — как-то сказала ей. — Хороший человек.
— Глухаря поди?
— Да. Трудолюбивый, пальцем тебя не тронет, на руках будет носить.
— Я, няня, подумаю. Мне надо как-то устраивать свою жизнь.
А надо сказать, что Зоя к этому времени красавицей стала, многие парни на нее заглядывались, и все же она согласилась стать женой Глухаря. Зоя привязалась к нему, полюбила. Он выстроил лучший дом на селе. А вот бог не дал им детей. Они стали мне вроде сына и дочери. Бывало, в праздники ко мне идут, детям гостинцы несут, по хозяйству помогают. А Праскуту не признавали: Зоя не могла ей простить.
В тридцать восьмом году мой муж отстал от своей полюбовницы и вернулся домой. Не прогонишь: к детям вернулся. А они смотрели на него опасливо, как на чужого, не шли на руки, не давали прикоснуться к себе. У меня спрашивали, показывая на отца пальцем:
— Мам, он зачем к нам пришел? Чужой дядька.
— Жить пришел. Он ваш отец.
— А где раньше жил? Он кормиться пришел к нам?
Я молчала.
— Мы его боимся. Пусть уходит.
Так и остались навсегда чужими дети и отец. Родился у нас третий сын, и мужа забрали на финскую войну. Вернулся он с финской сильно контуженный и вскоре умер.
…В сорок первом году, вот в такую же сенокосную пору, у нас тут стояла жара. Я шла с луга, еле ноги волочила. Намотала руки литовкой, плечи болели, сожгла их солнцем, устала до смерти. Сердце почему-то ныло, предчувствовало что-то недоброе. Я тогда сильно беспокоилась о детях. Их было, трое. Самому большому — Пете — только что минуло двенадцать лет, среднему — Ивану — девять, а самому меньшему — Коле — два годика. В то время в колхозе садика не было, ребятишки оставались дома без надзора, и уж не обходилось без того, чтобы они чего-нибудь не набедокурили. Я боялась, что подожгут хату, а хуже того — сами в огонь попадут, боялась, что утонут в реке, она вон протекает за нашим огородом, там они всегда купались… А по шоссе и в то время уже сновало много машин: станут перебегать дорогу и — под колеса. Далеко ли до беды? Так вот, подхожу к хате, а навстречу со двора выскакивает Зоя. Глаза круглые, испуганные, как у кошки, за которой кто-то гонится. «Ну, видать, беду несет мне», — подумала я и схватилась за плетень, ноги отказались идти, отяжелели, не поднять.
— А-а-а, нянь! — кричит. — Скорей сюда беги. Я заждалась тебя.
— Ай, что случилось?
Я уже представила детей мертвыми: лежат на земле рядышком, а вокруг люди столпились, поджидают меня, мое горе разделить…
А Зоя увидела, что я напугалась, рот раскрыла и не знает, что сказать.
— Чего молчишь? Говори! Где дети?
— Да подожди ты, нянь. Германец напал. — Зоя заплакала.
— Какой германец? На кого напал?
— На нас! Война началась. Война!
— Война, вот что!
Всего я ожидала, только не этого. И не могла я в тот момент до конца постичь тот ужас, который таился в слове война! Я будто оглохла, не хотела слышать Зоин голос. Зачем она так кричит? Зоя приблизилась ко мне и уже более спокойно сказала:
— Напал немец. Киев уже бомбили. По радио передали.
— Война! Куда денешься с детьми, куда спрячешься от пуль, от бомб и снарядов? Что же нам теперь делать?
— А, нянь! — снова кричит Зоя.
— Что?
— Я в который раз повторяю тебе: всех людей созывают на площадь к магазину. Дети убежали туда.
Приходим на площадь. Сейчас она вся застроена, а раньше там стояла на высоком берегу реки белокаменная церковь, росли тополя. С другой стороны площади в старинном здании из красного кирпича находилась колхозная контора, а недалеко от нее — бывший купеческий магазин, тоже из красного кирпича. На митинг пришли люди из соседнего Болотного поселка. Наверное, собрались все от мала до велика, никогда еще на эту площадь не стекалось столько народу. Меня увидела подруга Ульяна, сокрушенно покачала головой:
— Что будет? Тебе не страшно: мужа нет — некого брать на войну.
— Мужа нет, так война пройдет мимо меня? Она каждого коснется и обожжет. От нее не спрячешься, милая.
Рядом стояла Давыдиха. У нее четыре сына служили в армии, да трое, не считая мужа, жили дома. Их на второй день мобилизовали. Забегая вперед, скажу, что все они прошли войну и вернулись домой. А тогда она дрожала за детей, плакала.
Около церковной ограды остановились грузовики, на них приехали чумазые трактористы и шоферы, слесари и токари, доярки, свинарки. Из ближнего переулка появились трое: впереди мой сосед Кирюша — худенький, сутулый. Его мышиные глазки так и бегают, шарят в толпе, кого-то выискивают. За ним плывет его жена, толстомясая, краснощекая Праскута — Зоина мать, а следом плетется ее квартирант — колхозный пастух Карп. Все знают, что он ее сударчик. Когда-то отца его раскулачили, сослали, а Карп остался в деревне и уже много лет пасет скот. Карпа-то люди недолюбливали, он был одинокий и жил у Кирюхи не первый год. Хозяин много раз заставал квартиранта со своей женой, всякий раз грозился прикончить «сомустителя», но дальше угроз дело не шло. Праскута гневным окриком успокаивала его:
«Смотри, как бы я тебя самого не прикончила. Живо вылетишь отсюда. Подумаешь: полежал мужик рядом… Я что, от этого похудела? Надо же ему где-то отдохнуть. У него нет своих диванов. Все отобрали. Поставь себя на его место».