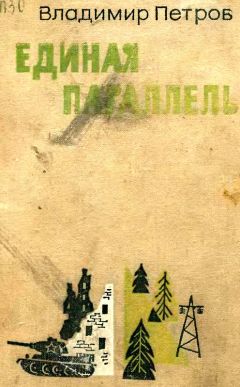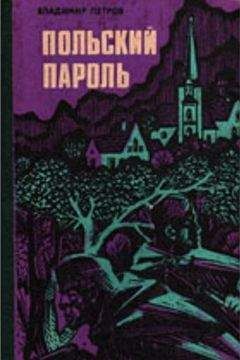В любом случае — не надо подавать вида. Они сказали, он услышал, ну и лады — разошлись в разные стороны, будто никакого разговора и не было.
Китаец, покачивая головой, все еще страдальчески хныкал, зато Егорка равнодушно чавкал, как бугай на пастбище, иногда хлопал комарье на бронзовых скулах.
— Ты бы хоть серу жевал, — сказал ему Вахромеев. — Листвяжную.
— Я ее зимой жую, — буркнул Егорка. — А летом — зелень. У меня, значица, десны болят. Старуха велит смородину жевать.
— Какая старуха?
— Да Волчиха, знахарка наша. У нее и про любовь травка имеется. Тебе еще не занадобилась? — Савушкин приподнял рыжую бровь, озорно стрельнул ореховым прилипчивым глазом. — Могу спросить.
— Но-но! — насупился Вахромеев. — Что мелешь-то, бормота непутевая?
— Да я к слову, — придурился Егорка. — Это ведь кому чево потребно.
Неужто пронюхал про Фроську! Вполне возможно. В этой Черемше, как в курятнике, не успеет курица снести яйцо, а накудахчут на готовый цыплячий выводок.
— Чего робить-то будешь? — с деланным интересом спросил Савушкин, поднимаясь с земли.
— Что-нибудь буду… — Вахромеев потянулся, втоптал каблуком окурок, краем глаза замечая вытянутое, настороженное лицо китайца: уж больно ему хотелось услышать какое такое решение примет председатель. — Подумаем, обмозгуем. Как говорится, оценим обстановку. А уж потом и дело сделаем. За разговор — спасибо.
— Ну гляди в оба, архистратиг! — Егорка ткнул кулаком в председателево плечо. — Пойду поищу своего Буланку, он тут за пихтовой гривой стреножен. А «ходя» еще чего-то хочет сказать. Я чужие секреты не люблю.
Вахромеев свистом позвал мерина и, пока тот неохотно плелся к дороге, выжидательно обернулся к китайцу.
— Валяй, «ходя». Я слушаю.
Он был почти уверен, что именно сейчас услышит те самые условия, ради которых и состоялась неофициальная встреча на таежной тропе: мы — тебе, а ты — нам. Услышит то, о чем постеснялся или не осмелился сказать трусоватый увалень Савушкин.
Однако, к большому удивлению, он ошибся и на этот раз, потому что китаец, оглянувшись по сторонам, полушепотом сказал:
— Моя только тебе говори. Тсс! На плотине еси шибко плохие люди. Плотине делай чик-чик! Какие люди — моя не знай. Твоя сама види.
— Откуда тебе известно? — насторожился Вахромеев.
— Тайга ветер носил — моя уха попадал, — хихикнул китаец и предупреждающе погрозил пальцем: — Моя тебе нисево не говорил. Моя тебя не видал. Нету.
С неожиданной юркостью китаец шмыгнул в придорожный карагайник, мелькнула его синяя куртка, и он пропал в тайге.
В тот же вечер Вахромеев пришел домой к Денисову. Парторг еще болел, но дело шло на поправку. Он уже вставал, ходил по комнате — уколы, которые ему ежедневно делала фельдшерица, видимо, помогли.
Они вышли на крылечко, сели рядом на теплую, чисто скобленную ступеньку. Вахромеев обстоятельно рассказал о новостях, начиная с «лошадных дел» на стройке и кончая недавней встречей в тайге с Егоркой и китайцем Леонтием.
Денисов слушал молча, попыхивая папироской. Потом усмехнулся:
— Самое главное — не это, не угрозы кержаков… Они тебе и раньше грозили. Их сама жизнь подхлестывает, к тому же со вчерашнего дня агитбригада Слетко на Кержацкую падь нацелена. А он парень пробивной, сумеет доказать им, где черное, где белое. Да и комсомольцы подключились. Меня другое беспокоит… Ты слыхал, Шилов-то нового начальника ВОХРа назначил?
— Слыхал…
— Как ты думаешь почему?
— Ну чтобы охрану укрепить: это и следователь рекомендовал. Поставил своего человека. Понадежнее.
— Вот, вот! И еще одного «надежного» человека взял в охрану — Гошку Полторанина. Как ты думаешь, зачем все это?
— Черт его знает… Кадровые дела — это по твоей части.
— А ты советская власть. Можно сказать, государственное око. Так что тоже зри и не хлопай ушами. Размышляй и за себя и за других. Надо вот что сделать: провентилировать Гошку Полторанина. Найди-ка его, и пусть он как-нибудь на днях зайдет ко мне. Разговор к нему есть.
— Ладно, сделаю.
— А насчет Кержацкой пади действуй посмелее. Пусть они тебя боятся, а не ты их. Сходи туда еще раз, поговори со стариками. А переселение начинай, хватит тянуть. — По поводу предупреждения китайца Денисов сказал коротко: — Мало вероятно, но примем к сведению.
Изболелась душа у Фроськи. Вроде бы сыта, обута, при хорошем деле и при деньгах, товарки веселые окружают — живи себе, радуйся. Ан нет… Нет покоя ни уму ни сердцу.
Сны снятся тягостные, не то чтобы страшные, а тоской повитые: с расставаниями, прощаниями да с конями разномастными, которые все скачут куда-то, скалят желтые зубы, будто ржут, а ржания того вовсе но слышно…
И себя Фроська чуть не каждую ночь видела: виноватую, с поредевшей косой, босую, с пустой холщовой торбой на плече — будто все собиралась опять отправиться на побирушки, как в памятном голодном году.
Она ежедневно жила какой-то странной вселенской болью, слишком настоянной на радости, чтобы чувствовать ее физически. Ей теперь до слез было жалко многое из того, мимо чего она недавно проходила равнодушно: раздавленного на дороге жука, хромого пса бездомного, подслеповатую встречную старуху, и вообще, временами ей почему-то становилось жаль всякого, кто не улыбался, а был просто серьезен. По утрам, слушая в общежитии радио, она утирала глаза, искренне печалясь за участь детей и женщин далекой Испании, гибнущих под бомбами, страдала оттого, что беда настигает людей в городах с такими красивыми названиями, напоминающими диковинные цветы…
Она стала очень уж восприимчивой, чувствительной, оттого что душа ее распахнулась в ожидании счастья и осталась распахнутой, хотя счастье-то не состоялось. Не промелькнуло, его просто не могло быть — теперь Фроська хорошо понимала это.
Нет, она не ругала и не жалела себя, потому что, в конце концов, ничего не потеряла, даже, может быть, наоборот — приобрела: само ожидание счастья сделало ее другой.
Жена Вахромеева, учительница Клавдия Ивановна, стояла у нее на пути-дороге. И стояла так, что вроде глухого тесового забора: ни обойти ни объехать и уж подавно не перепрыгнуть. Добро бы женщина была видная, стоящая из себя, а то ведь замухрышка: костлявая, длинноносая, в очках — ну чистый филин! Да к тому же разноглазая, один глаз карий, а другой явно в синеву отдает. Фроська как увидала ее однажды в школе, так и ахнула, внутренне перекрестилась: мать пресвятая богородица, да за что же наказание такое ясноглазому Коленьке!
Вроде оборвалось что-то у Фроськи, пропала всякая охота к соперничеству: кто ж убогую станет обижать? Если уж соперничать, отбивать залетку, так на равных, по-честному…
Впрочем, Фроська все это для себя придумывала, чтобы голос внутренний приглушить о грехе вопиющем. А на самом-то деле и грусть-тоска ее была светлой, невзаправдашней, беспечальной. Втайне, в глубине души она все равно жила ожиданием счастья, помаленьку привыкала к греховной истине о том, что жизнь нередко выдает его замешанным, как хлеб на опаре, на чужих людских страданиях, А уж твое дело — примешь ты его или откажешься.
Одна беда: одолевали ухажеры — те два оболтуса с бетономешалки. Ванька-белый и Ванька-черный. Со стройки до самого барака провожали, вечером с ликбеза сторожили у школьного крыльца, а уж по воскресеньям вовсе нельзя было отвязаться: с утра сидели под окнами общежития, бренчали на завалинке балалайками. Маята с ними; Фроська в магазин — они следом, в столовку — тоже тянутся. Хоть бы уж ходили рядом, как все нормальные парни ходят, а то гусаками шкандыбают сзади, на пятки наступают, обормоты. Девки ехидную присказку пустили: «Фроськина „собачья свадьба“ шествует!»
В самом конце июля взбудоражилась Черемша — в клубе начали крутить звуковое кино. Судачили теперь об этом в каждом дворе, а которые побывали в клубе, ошарашенно разводили руками, охали, крестились: ну как есть живые люди вылазят на полотно! Говорят-то чисто— шепот и то услышишь! Песни поют, плачут, ругаются (иные сказывали — матюками!) — и все это в натуральном виде, только шибко громко: в ушах потом звон держится.
Одной бы Фроське в кино не пробиться — столпотворение у кассы. Ухажеры-Ваньки привели ее в клуб, плотно стиснули с боков на третьей скамейке у самой стены. Сначала, как пошло мелькать на полотне, Фроська не очень-то разбиралась, обалдело таращила глаза в духотище и грохоте, к тому же ухажеры ерзали, совали ей в потные руки то леденцы, то жареные семечки.
Потом чужая неведомая жизнь, пугающая открытостью и откровенностью, захватила ее в свой пестрый водоворот! Тоскливая музыка, казалось, временами вовсе захлестывала, топила с головой, и тогда Фроська, расталкивая плечами жаркие тела ухажеров, хватала ртом воздух, дышала судорожно, часто, как пескарь, брошенный на траву.