— Сейчас...
Она взяла под руку, за локоть.
— Тут во дворе скамеечка есть, я вас отведу, посидите. Что с вами?
— Не знаю...
— Первый раз так?
— Бывает...
— К врачу надо.
— Да...
— Может, «скорую» вызвать?
— Нет...
Она завела его во двор, без единой электрической лампочки, освещенный только тусклыми полосами света, легшими на свежую траву из зашторенных окон. Двор словно бы уже окунулся в ночь, даже огрызок луны висел над ним так низко, что с улицы было не видно, загораживал соседний многоэтажный дом.
Это все он рассмотрел позже, когда посидел на дворовой скамейке, а женщина уже ушла, постояв рядом недолго. Он так и не сказал ей фразу, которую хотел сказать первой, да не мог:
— Сейчас начну дышать. Как будто подавился.
Из старого низкого дома вышел какой-то парень, посмотрел на него, покурил в дверях. Михаил Авдеевич спросил, где нужная ему улица. Парень, похоже, был нетрезвый, не ответил, качаясь и цепляясь за косяки. А потом, вслед за ним, высунулся из калитки и крикнул:
— За третий угол направо! Понял?
Он отсчитал три угла... Потом пришлось подниматься по широкой старой лестнице на третий этаж. И это одолел. Со многими остановками, правда.
Дверь открыла старуха, которая его сразу узнала. Уши, что ли? Бадейкинская порода. Последовало громкое — явно с перепугу — приглашение войти в коридор, и за комнатной дверью, скрывшей старуху, он услышал шипенье ее паникующего голоса:
— Юль! Костин отец! Что говорить?
— Где ж он? Что ж ты его оставила, мама! — и Юля сама выскочила в коридор и засуетилась, помогая ему раздеться и повторяя, что ей очень приятно. Повторяла и повторяла.
Невольно подумалось — а она трезва? Лишнего он не хотел думать, но — буфетчица, должно быть, не брезгует. Откуда ему было знать, как она боится пьющих?
На столе выделялась швейная машина, обкиданная безумно яркими крепдешиновыми лоскутами, которые Юля быстро сгребла и убрала на подоконник, приговаривая:
— За платье взялась подружке. С работы. Давно уж обещала, а настроения все нет! А она обиделась до смерти, не понимает, что даже чужого платья без настроения не сошьешь... Ну ладно!
Старуха меж тем оделась, расшаркалась, поклонилась:
— До свиданья вам. Ухожу.
Он испугался, не из-за него ли.
— Мама на службу, — сказала Юля, а старуха добавила:
— Сторожую в универмаге, — подошла к этажерке и стала рыться в разукрашенных тонких книжках.
— Мама, опоздаешь!
И вновь зашипело за дверью, теперь в коридоре.
— Юленька, помни, он больной...
— А я думаю, поздоровей нас. Вон, и ездит, и ходит. Выдумал себе болезнь, чтобы сыном заправлять. Всю жизнь ему перекорежил.
— Нет, ты с ним поласковей...
— На всех ласки не хватит!
— По-человечески...
— А Людочка говорит, как только по-человечески, так и погорела! Выродилось это, мамочка!
— Не сходи с ума.
Она засмеялась:
— Меня еще в школе называли ненормальная Юлька!
Когда Юля уселась за столом, напротив него, с улыбкой, такой же милой, как и настороженной, а потом вскочила, накинула на плечи, на свой легкий халатик, кофточку, потому что в вечерней комнате довольно прохладно было, а отопление уже выключили, и снова села, снова заулыбалась, он сказал:
— Разговор у нас, доченька, хочешь не хочешь, а жесткий будет. Малорадостный.
— А я другого и не жду! — ответила она, все еще с улыбкой, немного отъехав от стола на стуле, закинув ногу на ногу и сведя рукой воротник кофты на горле. — Зряшное предупреждение.
— Но сначала я у тебя хочу прощенья попросить.
— За что?
— За то, что выгнал тогда. Мучает это меня. Сорвался, закричал... Вот. За правду гонят в одном случае. Когда ее боятся. Это мучает меня еще больше. — Михаил Авдеевич надолго замолчал.
— Может быть, вам валидола дать? — спросила Юля. — У мамы есть.
Он вернулся к начатому и договорил:
— Можно из комнаты выгнать человека, а правду? Ее не выгонишь. Все равно.
Настороженность в ее черных глазах не рассеялась, наоборот, сгустилась. Ни человеческие слова, ни искренность в их тоне ее не подкупали. «Не глуп старик, — подумала она, — да только и я больше не буду дурой. Не поддавайся, Юлька!»
— Так вот. По правде. Не придет он к тебе, не жди, Юля.
— Придет, — ответила она почти нахально.
— Он ее любит.
— Знаю.
— Знаешь, а...
— Ничего вы не понимаете!
— А ты понимаешь все?
— А я — все!
— Вразуми.
— Не смейтесь!
— Вот дурочка! Я с тобой честно говорю. Как с другом... Вразуми.
— А чего тут! — рассмеялась Юля. — Он ее любит, а она его — нет! И сказке конец.
— Неправда.
— Многие только то, что им хочется, считают за правду.
— Это я знаю, доченька.
— Перестаньте меня так называть! Все сказали?
— У них сын.
— Знаю, Михаил Авдеевич. Миша его зовут, как вас, — прошептала Юля.
— Что ты еще хочешь?
— Чтобы Костя ко мне сам пришел! — снова крикнула Юля, не сдержавшись. — Пусть придет и сам скажет — то же, что и вы! Но сам! Я хочу от него узнать. И только ему поверю.
— Он от тебя прячется.
— Вы его прячете!
— Ну, прячу, — согласился старик. — Я прячу. А позвонить? Раньше-то он звонил тебе на вокзал? С работы, например, с улицы...
— Звонил, — растерянно сказала Юля.
— А теперь?.. Я его к тебе посылал, а он духу не набрался.
— Поэтому вы ко мне и пожаловали? — засмеялась Юля. — Что ж он делает в бегах? Один! Он же кончится от тоски!
— Он картины рисует. Ты видела его картины?
Юля покрутила головой — нет. Заговорила, что ей все равно, кто он.
— Не просила, — вспомнила Юля, обхватив голову руками и зажав уши, словно для того, чтобы не слышать своего крика. — Сам сказал — можно я у тебя останусь совсем? Сам! Это ему нужно!
— В тот момент он мог и заявление в загс подать. Но ты не верь ему, даже если подаст.
— Почему?
— На регистрацию не придет.
— Сам сказал! — повторяла Юля. — Сам! Сам! Уходите, ради бога, пока я вас не выгнала!
Под этот ее крик Михаил Авдеевич и ушел от Юли, жалея молодую женщину всем своим больным сердцем и уговаривая себя, что эта воинственность в ней — из детства, от ненормальной Юльки. Детство иногда сопровождает нас, а потом отстает, и человек взрослеет вдруг за час.
К Тане он направился пешком, чтобы придумать и отобрать по дороге какие-то разительные слова для разговора с ней. Шел, останавливался и думал, отдыхая. Нужных слов не находилось. Хоть плачь. Он миновал дом, решив, что, как только найдет неожиданное слово, так и вернется, а кончилось тем, что вылез из автобуса на углу Сиреневой. Так ничего и не нашлось. С матерью решил посоветоваться, с Леной. Просто так с Таней было говорить опасно...
Из думанья выплыла лишь одна мысль, что это Таня вернула Коську к кисти и краскам. Не мог он жить с ней не во всю свою человеческую силу! Вернула, а сама не поняла. Кауперы заслонили... А ведь умница, кажется. Женский ум? Нет, женского ума как раз ей и не хватило! Все перепуталось...
И когда Костя поднялся со старой скамейки у калитки в штакетнике, за которым набухала безотказная сирень, Михаил Авдеевич остановился и сказал:
— Большое горе подарил ты обеим.
— Знаю.
— А чего склабишься?
— Всегда хотел, чтобы от меня шла радость. А вышло горе. Разве не смешно?
— Еще не вечер, — сказал отец, хотя на дворе уже стояла тихая темнота, плотно окутавшая дома там, где на электрических столбах сгорели лампочки. — Я у Тани не был.
Ночью Костя радовался тому, что отец не побывал у Тани. Он сам пойдет, сам все и скажет. Не спал и думал...
Ночью мать сидела на постели отца и шептала, что она давно все поняла, еще в тот день, когда та девушка к нему приходила, вот смейся, а сердце матери чует, и что с Таней у них разлад, много не надо, чтобы заметить, но главное тут — не лезть, она и Зину предупредила: свяжи в узел язык, как будто все в порядке. Не замечать! Пусть сами разберутся, не маленькие. Да и что скажешь Тане? Она сама знает, что я, мать, буду стоять, ну, просить за Костю. Как и ты, Миша. Нет, не надо ее трогать, ей-богу, так лучше!
И когда она отшептала и ушла, вспомнилось старику свое, казавшееся давно забытым, погребенным под временем, как под пеплом. А ожило враз, словно от толчка.
Уже не первый год дышали одним воздухом с Леной и ели один хлеб. Была Зина. Был дом. И была непослушная молодость... Послали его, молодого, на трехмесячные курсы, усовершенствоваться, в другой город, и там появилась женщина, тоже молодая и веселая. Сначала танцевали с ней под духовой оркестр в парке, который до сих пор казался самым большим на свете, и она кружилась и прыгала ланью в своем желтом платьице. Он не помнил ее в другом и только сейчас подумал, что у нее и было, возможно, всего-навсего одно это платьице.
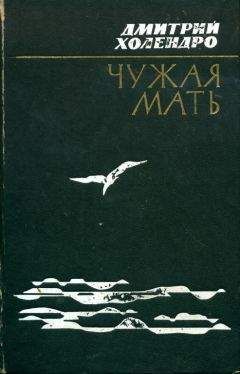

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)