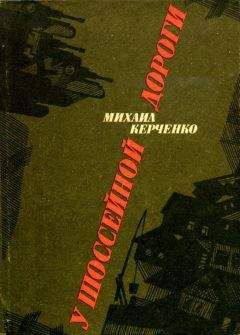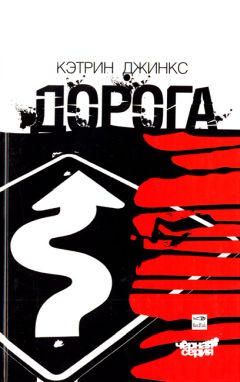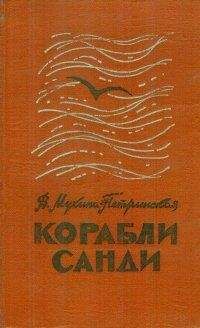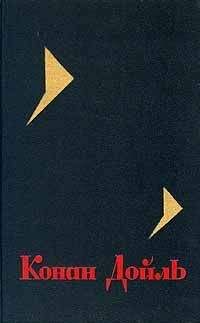— Не бойся. Давай мясо — отпустим. Куда спрятала?
— Никола, стреляй меня На месте — мяса нет. Все отдала взаймы, за хлеб. Детей кормить нечем: все власовцы забрали. Если хотите, то я соберу хлеб.
— Нам хлеб не нужен. Мясо давай! Мы любим мясо.
— Мяса нет, поменяла. Клянусь!
— Становись к стене. Торговаться вздумала, такая-сякая!
— Ну что ж, к стене так к стене, — говорю. — Стена любого примет.
— Ты на что намекаешь! Становись!
Руки у меня затряслись, а сердце словно окаменело. Стала у стены, зачем-то руки скрестила на груди. Сердце защищала, что ли? Вижу староста идет, Кузик. Я крикнула:
— Василь Васильевич, ты знаешь, за что меня сюда поставили? Знаешь, по чьей подсказке… Ох, спросят! Люди — не мухи…
Он хвать за голову, как дурачок, начал кривляться:
— Никола! — кричит полицаю. — Куда мне бежать? Скажи! Дюже напугала меня Аришка.
Издевается, значит, староста.
— Зачем, — говорю, — тебе бежать? Меня пригнали, мне и бежать надо. А ты после будешь думать, куда тебе бежать и твоим родным.
— Ну, ладно, иди к семье, — приказывает.
— Ты меня не приводил сюда, зачем я пойду?
Он отвел Зубленко в сторону, пошептался с ним, на меня поглядывая.
— Иди домой, — приказали они, — да мясо приготовь.
Ну, думаю, сейчас в спину… Поворачиваюсь. Сделала один шаг, второй. Прохожу мимо одного двора, другого, жду, когда в спину выстрелят. И вдруг: та-та-та из автомата. Я вздрогнула и остановилась. Оборачиваюсь. Они хохочут:
— Иди, иди! Это мы пошутили. В небо стреляли.
Дети встретили меня у ворот: «Мама, ты живая!»
Я взяла на руки младшего, вошла в хату. Племянница спрашивает:
— Петь, ты что такая бледная? На тебе лица нет.
— Мань, убили бы меня и не знали бы вы где, — рассказала ей все. Глянула в окно, а полицаи опять у ворот. Сердце заколотилось. Ну, сейчас все, конец. Вышла я на крыльцо, чтоб детей не пугать. Они к окнам прилипли, смотрят на полицаев.
— Что, опять затряслась? — спрашивает Балбота. — За своих щенят боишься?
— Доля моя такая, — отвечаю ему. — Некому меня защищать сейчас. Брат — и тот в лагерях…
— Давай, что у тебя есть. Жрать хочется.
А сами без приглашения в избу прутся.
— Ребята, ничего у меня нету. — Я догадалась, что они выпить захотели.
— Разживешься? — спрашивает Зубленко, подмигнув другу.
— Пойду, поищу. Что делать? Раз душа просит…
Накинула на плечи хусту — старую шаль, побежала искать самогон. Прошла поселок и лог. На отшибе жил знакомый мужик, он со своей бабой гнал самогон. Немцев подпаивал. Увидели они меня в окно, вышли на дорогу, встречают.
— Куда, Емельяновна, спешишь? Знать, переполох какой?
— Тихонович, спаси, если можешь. Надо два литра самогона. Полицаи ждут. Изгаляются надо мной целый день. Сообщи нашим, чтоб прибыли.
— Даша, — говорит жене, — налей покрепче.
Приношу домой самогон, ставлю на стол перед полицаями.
— Пейте, — говорю, — самый крепкий, первач.
— Молодец, Ариша. Давай мяса на закуску.
— Я здесь на квартире, ничего не знаю про мясо.
— Глянь в печку, в чугунах найдешь что-нибудь.
— Я не клала в чугуны, не полезу в печь, не мое дело.
Выпили они по стакану, кулаками закусили.
— Ну, ты и упрямая, Ариша. Так и лезешь на рожон.
— А вы, сынки, привыкли, чтоб вам все на блюдечке подавали в горячем виде. Ой, хлопцы, трудно будет отвыкать. Трудно. А отвыкать придется.
— Ты на что намекаешь? Ты это к чему? Что мы с ней церемонимся? — закричал Зубленко.
— Ладно, поостынь, — успокаивал Балбота.
— Мань, — говорю племяннице, — глянь в чугун, есть там что? Пусть съедят, дети и так переночуют.
Она вынула из печи чугун, сняла сковороду, посмотрела.
— Теть, тут одно коровье сердце.
— Пусть они съедят его. Им бы собачье сердце…
— Давай на стол, — приказал Балбота, — все слопаем. И лук давай. И помалкивай. Хватит! А не то…
Долго они сидели, выпили все до капли, сердце коровье съели и подались. Люди видели, как они шли по улице. Только домой не добрались. Их в целости и сохранности в партизанский отряд доставили.
Брат мой бежал из лагеря в лес к партизанам, и я туда уехала. Жили в палатках, в землянках, согревались у костров. Ждали со дня на день своих. Тяжело было: и голодно, и холодно. Мужики воевали. Мы каждый день кого-нибудь хоронили. До того все измучились, особенно старики и дети, столько накипело в душе горечи и ненависти к фашистам, что все — и женщины, и старики, и подростки — просились у командира отряда Трошина: «Давайте своими силами освободим деревню. Ведите нас в бой».
Я работала поваром, варила кашу для партизан. Как-то пришел на кухню Трошин. Я говорю ему:
— Товарищ командир, кое-что насобирала на одно варево, а завтра нечем кормить бойцов: ни хлеба, ни картошки.
А мой брат (он помогал мне на кухне) досадует:
— Ах, сестра! Ты все о еде. Не хлебом единым жив человек. Я рад, что среди своих, не за колючей проволокой.
— А как же! — говорю. — На голодный желудок трудно воевать. Мы-то терпим, а ребятишки? Они совсем отощали, говорить не могут, глазенки ввалились, кожа на скулах обтянулась, блестит. Так ведь недолго и до беды.
— Ладно, Арина Емельяновна. Потерпи еще один денек. Только денек! — успокаивал меня Трошин.
Недалеко от кухни стояла палатка Тихони — старого колхозного тракториста. И его жена там находилась. Вижу, идет к нам Тихоня, на загорбке что-то тащит, в руках узелок.
— Вот, Ариша, пшено и сушеные грибки, приберегал на черный день. Вари полевой суп. Корми бойцов.
— Ну, Тихоня, спасибо тебе, обрадовал.
Всю ночь за лесом гремели выстрелы. Утром слышу, кто-то идет по лесу: тресь-тресь — сучки под ногами трещат. Это был сын Ульяши Павлик.
— Ну, тетя Ариша, можешь домой ехать. Там уже наши.
Кто-то посоветовал отправить сначала моего старшего, чтоб он там все узнал, а потом уж и самим можно двигаться.
— Нет, — сказала я, — поедемте все. Не дай бог, убьют мальчика, а потом всю жизнь буду казниться.
До Болотного поселка мы добирались часа три. Наконец, видим: вдали над пожарной башней — красный флаг.
— Ну, братик, — говорю, — ты с ребятишками отправляйся домой на телеге, а я с Колей пойду на свою усадьбу, в Рябки.
— Что тебе там делать? Там же ничего нет, Ариша.
До сих пор сама не знаю, что меня тянуло на усадьбу, где ничего не было, ничего, кроме пепелища да старого одинокого тополя и печки. Может, манила меня туда память о прошедшей нелегкой жизни. Мне казалось тогда, что раз пришли наши, то они вернут мне все, даже молодость…
Шла я с сыном прямо через луг, земли под ногами не чуяла. А сама все вперед смотрела, туда, где когда-то стояла моя хата. Как магнитом тянуло. Увидела на шоссе машины с солдатами, бросилась к ним, бегу и кричу:
— Э-ге-ге! Обождите меня, сыночки.
Они услыхали, что кричит женщина, соскочили с машин, бегут навстречу. И тут я в обморок упала. Как во сне слышу:
— Дайте ей чаю! Дайте чаю.
Пришла в себя. Солдаты держат на руках моего сына Колю, дали ему сахар. Посидела я на земле, встала.
— Ну, мать, чего же так ты кричала? — спрашивает молодой офицер.
— Ребята, кричала я от радости, что вас увидела. Спасли вы нас. Спасибо вам, земной поклон от меня и от всех односельчан.
Арина Емельяновна очень волновалась, рассказывая. Она порой словно забывала, что с тех пор прошло много времени, десятилетия, в деревне народилось, выросло и живет новое поколение людей. События она видела перед собой так живо, будто все произошло не позже, как на прошлой неделе.
— А что стало с Кириллом Матвеевичем Трошиным? — спросил я. Арина Емельяновна тяжело вздохнула, посмотрела в окно.
— Он двадцать лет работал председателем нашего колхоза. Хороший был человек. В область направляли руководить какой-то большой организацией — не поехал. «Здесь родился, здесь умру». И умер за столом на работе. Он ведь был весь изранен, сердце часто шалило. Однажды плохо стало — положил голову на руки и… скончался. Прямо в конторе. Хороший был человек. Лучше не скажешь.
От тети я узнал, что Тихоня, вернувшись из партизанского отряда в деревню, нашел ломик, лопату и извлек из земли тот самый трактор ХТЗ, про который когда-то спрашивал на колхозном току предатель Скидушек. Выкопал, очистил, обтер его ветошью, заправил горючим, к трубе привязал красный флажок (давно, наверно, носил его с собой) и, забравшись на свой пятнадцатисильный, поехал вдоль деревни. Люди высыпали из домов на улицу, смотрели на Тихоню, как на героя. Молодец! Вот кто, оказывается, спрятал трактор! Вот кто теперь будет пахать землю. Лошадей-то нет! А трактор очень пригодится. Как раз посевная. Он, Тихоня, ждал этой минуты всю войну, он жил ради этой минуты, жил, чтоб сесть на трактор, прицепить плуг и пахать землю.