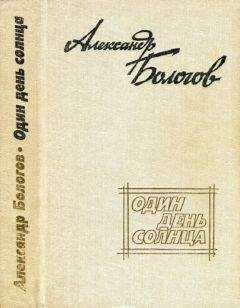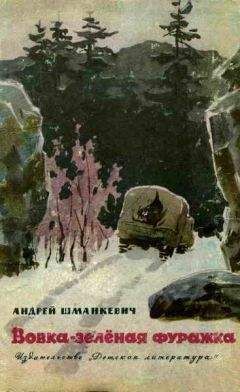Однако уже через короткое время — они и до первого оврага не дотянули, где по осени Ольга, разувшись, месила болото, через которое легла дорога, — Ольга поняла, что путь им предстоит тяжелый.
Мишка, как она ни смиряла свой и без того неспорый шаг, отставал. Оглянулась раз, а он стоит, уже далеко, мешок не опустил, но стоит, смотрит ей вслед. «Сыночек, ну что же ты?!»— хотела крикнуть, да не крикнула, — и дыхание было сбито, и пользы в этом не видела. Пришлось опускать свой «сидор» вперевес на землю, возвращаться, освобождать Мишку от ноши.
Переложила, снова перевязала груз, и хоть невеликий вес был отделен сыну, а тяжести прибавилось, — еле поднялась с четверенек, подлезши под мешок.
Миновали глубокий овраг с топким дном, — Мишка разом прошмыгнул, а Ольга на ощупь, скользя ногой, одолела присыпанный белой крупой и прихваченный ранним морозом переход. На бугре ветер задувал сильнее. Мишка налегке потерял тепло. То и дело тер он на ходу коленки, глубже засовывал в стеганые бурки бумажные штаны, поправлял привязанные скрученной тесьмой галоши. Галоши были чужие, крупнее ноги, и часто сбивались с ровного следа. Но Мишка страдал не из-за них, а из-за холода. А оттого что перегруженная, не в пример ему взмокшая от пота мать досадливо сопела всякий раз, как он догонял ее после частых заминок, Мишка совсем расстроился и захныкал.
Не видя впереди ни подходящей лощинки, ни кустов, Ольга решила передохнуть на открытом месте. Опустила груз, потерла рукой заломивший крестец. Потом села на раздвоенный мешок, распахнула телогрейку и притиснула к себе сына. Приложила горячие руки к его коленям и сквозь материю ощутила их морозную твердость. «Господи, и вправду заледенел…» Потерла, погрела худенькие ноги, подышала на руки, потом, не отпуская сына от себя, достала спрятанную глубоко за пазухой скибку хлеба и пару вялых соленых огурцов.
— Давай-ка, сынок, поедим. Пошибче пойдем — теплей будет. Вот попрошу баушку связать тебе новые рукавички, знаешь, как будет хорошо… Распущу старые паголенки, и тебе на рукавички.
Она закрыла Мишку от ветра, дышала на пальцы сквозь штопаные-перештопаные варежки, чтобы согреть всю руку сразу.
Дуло в спину, словно толкало к дому. Пороша ложилась неровно: местами на узкой белой простыне дороги намело плотные косые складки. Жнивье скрадывало первый редкий снег, и проселок матово светился среди пустой серой равнины.
Ольга устало жевала и глядела вдоль четко определившейся снежной полосы, думала: хорошо, что снег выпал, — и смеркнется, путь не утеряешь. Раз и два поворачивала голову, глядела вперед, куда надо идти, и вдруг далеко-далеко на дороге обнаружила куст. Отчего же она не увидела его сразу? Он хорошо заметен, хоть и мал, и неширок… И странно растет — между колеями, не прибило его ничем… А может, это не куст? Да куст, что же еще!..
Словно по чьей-то команде, Ольга быстро повернула голову и посмотрела вдоль дороги назад. На том же расстоянии, что и по пути к дому, посередине нее виднелся такой же аккуратный, точно кем-то обихоженный куст. Ветер не колыхал его…
«Ах!..» — Ольга так испуганно охнула, что Мишка, еще ничего не понимая, соскальзывая с ее колен, крепко вцепился в полу фуфайки и сразу же заголосил.
— Во-олки! — Ольга прижала к себе сына, потом быстро потянулась дрожащими руками к мешку, машинально тронула его, зашарила в карманах телогрейки, словно надеясь найти там что-нибудь такое, что дало бы ей возможность понять, что же ей делать.
Она ни разу не видела живых волков. Мертвого видела, в раннем детстве, — добытого отцом. Отец нашел логово, с семьей, подсторожил и убил волчиху, а троих детенышей взял живыми. Волчиха — длинная, как теленок, задеревеневшая на морозе — лежала в сенях. Холодея от страха, Ольга смотрела на ее оттянутое брюхо с помятыми сосками и алые потеки в углу приоткрытой пасти. «Не бойся, не кусит», — сказал отец, смахивая рукавицей, а потом и голой рукой кровяные следы с волчьей морды.
Волчата — еще маленькие, широколапые и головастые, — как только отец высыпал их из мешка, забились в темный угол под лавку и взвизгивали, звали на помощь.
— Мамку кличут, — кивнул отец в сторону дверей и снова вышел, чтобы унести волчиху в амбар. Слышно было, как он кряхтел и приловчался в сенях, подымая зверя, и как заскребли по выстывшему полу омертвелые когти…
Давно затерялась в памяти эта картина — казалось, безвозвратно, навсегда. И вдруг снова ожила — близко и ясно, до самой малой кровинки на черной губе онемелой волчихи. Ударил из детства глухой щелк тяжелых картечин, отмеряемых отцом для заряда, кислый запах старой шомполки, перетянутой в цевье сыромятным жгутом…
«Вот она — божья кара», — твердо представила себе Ольга, но между тем, оправившись от первого страха, торопливо стала делать то, что диктовал ей рассудок и опыт.
Ни при себе, ни на дороге она не обнаружила ничего, что могло бы ей помочь, — ни камня, ни палки какой-нибудь. Место было голое. Ногой, не слыша боли, Ольга отколола у кромки стерни смерзшийся комок земли, положила рядом с мешком. Отковырнула еще — Мишке.
— Не показывай, что боишься! — крикнула сыну, будто он был за версту. — Не голоси, они по голосу понимают…
Потом, пощупав затылок, сдернула с себя верхний платок и поверх шапки туго перетянула им Мишкину голову и шею.
— Если что — ты беги без оглядки, беги и беги… За маленьким не погонятся…
Мишка завыл еще сильнее.
Ольга огляделась. И в одну сторону — назад, к Путимцу, и в другую — к городу — путь был одинаков. Скоро упадут сумерки, деревню затянет мглой, бабы наглухо запрут и сенные, и внутренние двери, забьются овцы в углы хлевов — ни шороха, ни перха не услышишь. Не докричишься в такую пору до живого…
Город — ближе… Там всегда люди. Может, и на дороге кто появится — мало ли ходят… В городе Зинка и Санька — дети малые… За что им-то муки терпеть, если что?..
День поблек. Еще немного — и загустеет небо, сузится видимый промежуток. Поздно будет горевать, поздно думать…
Не отводя от дороги глаз, Ольга взялась за ношу, бросила Мишке: «Сынок, подсоби!..»— и разом вскинула мешок на плечо.
— Дай!
Мишка протянул ей заляпанный снегом комок.
— Иди и кричи, я тоже буду!.. И не показывай вида! Они следят… Только ослабнешь — поймут. Громче кричи!..
Мишка трясся, как будто кто-то невидимый, не переставая, сильно тормошил его, дергал так, что никак нельзя было остановить тело и губы, выговорить слово. Он всхлипывал и, слегка постанывая, пытался кивком головы показать матери, что понимает ее и что будет делать так, как она велит. Но даже это у него не получалось: голова не подчинялась Мишке.
Пошла поземка, пока еще слабая. Ольга запнулась на плотном скрипучем пласте и чуть было не упала — успела ухватиться за Мишкино плечо.
— На палых они и нападают! — громко сказала сыну, пока он поднимал оброненный ею отколок земли. — И слабых…
Мишка стучал зубами и молча вглядывался в далекий силуэт на дороге.
— Кричи, сынок! — сказала Ольга и сама резко и высоко, осиливая одышку, закричала — Ого-го!.. Николай, Василий, догоняйте нас!.. Ого-го!..
Семенящий рядом сын поднял на нее испуганные глаза, но она никак не отозвалась и продолжала выкрикивать:
— А ну поди!.. Ишь ты, вражина!.. Николай, Василий!.. А ну пошел! А ну пошел!..
Подал голос и Мишка. Он в один вскрик выдул из себя весь воздух, так что запело в ушах и проскребло глотку, — боль в ней обозначилась сразу, острым уколом. Но Мишка не снижал силу, напрягал голос, как мог:
— Эй!.. А ну пошел!.. Пошел!..
Дрожь не оставила его, и холод все так же костенил все тело, но он не думал об этом. Каждый следующий шаг он ждал чего-то еще более ужасного, чем переживал в данный момент. Весь он, все нутро его держалось, кажется, на одной-единственной прядке, готовой источиться в любую минуту.
Ольга шла не ходко, но частыми шагами, для шума что есть силы топая по застеленной белым сукном дороге. Дышать было тяжело, давило шею — одежда под стеганкой сбилась в сторону, складки тянули влажную кожу.
Она не отрывала глаз от волка…
Волк сидел и смотрел на приближавшихся людей. Та же собака, только дикая, — простая истина, открывшаяся давно, сама собой, и усвоенная без сомнения. Отчего же такой страх? «И у зверя есть душа…» Кто это говорил? Не отец ли?.. «Не бойся зверя, бойся человека…»
Он сидел ровно, не шевелясь. Теперь уже видно было, как легкий вихрь теребил шерсть у него на грузной шее (издалека казалось, что это на кусте шевелятся уцелевшие листья). Глаз его было не различить, но Ольга чувствовала острый охотничий взгляд, как ледяной луч пронзавший ее насквозь и замыкавшийся за спиной, у предела ее жизненной свободы.
Застопорив шаг и неловко развернувшись на сыпучем наносе, ома увидела, что двигавшийся следом второй волк остановился тоже и, точно потеряв к ним интерес, отвернул морду.