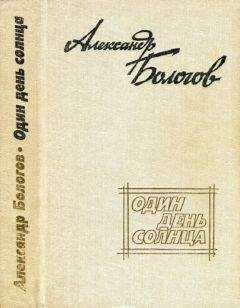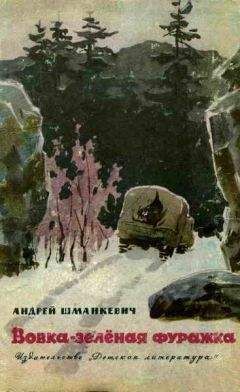Лида покачала головой, но на этот раз не перебила мужа, — делала она это в очень редких случаях. А Ольга в момент затвердела вся, отвела взгляд куда-то в пустой угол, подальше от суровых, гневных глаз сына, и вновь почувствовала, как к сердцу подступает искупительный огонь ее неизбывной, неясной вины.
— Это еще мягко сказано, — голос Михаила потяжелел. Какие-то темные осадки колыхнулись в его душе и поползли кверху, затрудняя полное дыхание. Осадки эти едва ли имели какое-либо отношение к тому, что витало еще над низким кухонным потолком, отдаваясь эхом далеких воспоминаний, и пришло из холодного, скупого на радости детства. Они, может быть, скапливались в другое время и отстаивались постепенно и плотно, пока какой-нибудь неожиданный толчок не взбаламучивал их и не поднимал бурно растущим клубом. И глухое чувство, вызванное этим толчком, быстро теряло свой явственный вид и направление и, подобно мутным паводковым водам, требовало единственного — свободного выхода.
19
Внешняя несхожесть детей, хотя и удивляла, никогда особенно не озабочивала Ольгу, — в каждом из них она ясно видела единородный исток и свою плоть, — обновленную, но неизменную, в каждом находила следы своей натуры. Некоторую разобщенность их в раннем отрочестве, когда обнаруживается самостоятельность склада, она объясняла тем, что вырастали ребята без отца, который, как она понимала, мог намного вернее ее укрепить семью, упрочить родственные связи. И тут ни на кого не попеняешь.
Но с годами — Ольга это чувствовала, переживала горько — отчуждение детей возрастало. И не большие пространства, разделившие их очаги, были тому причиной, нет. До Саньки вообще нормальным транспортом не доберешься, — часть пути надо ехать пароходом, — а как ждет его писем Зинаида! И ведь не пишет он, бывает, по полгода — за такое время, особенно при его характере, вся жизнь может перевернуться, умереть и воскреснуть можно не один раз. «Если не пишу, — значит, все нормально», — этим и отбояривается во все приезды. «А как же с ногой было, а молчал?» — «А что с ногой? Все срослось, гляди!» И начнет приседать да хлестать легонькими кургузыми штиблетиками по полу.
Это не Мишка… Мишка совсем другой человек, — не один раз подумаешь… Может, оттого, что рано отделился, так остыл он к ним? Сызмала своей головой приучался работать, познал, почем фунт лиха. Отходил, отходил, а потом и совсем — как отклеился, как словно чужинка где прошла.
Взять те же письма. «От кого это?»— спросит, когда увидит, Зинаида. «От Мишки». — «А-а-а…» И не задержится доча, идет, куда торопилась. А Санькины как манну небесную схватит, мусолит, не отходя от плиты, перещупывает глазами вдоль и поперек, забывши про загнетку. И отмякает сразу, как от лекарства какого. Саньке и пожалиться можно — поймет, и хоть и подолгу молчит, обязательно отзовется, вспомнит про все и скажет свое слово.
Вот и тут разница. В первый приезд к Мишке вздумала свои боли ворошить, исторгла их из сердца, чтобы остудить в близком участии первородной кровинки, а как обожглась! На холодном обожглась… «Что ты все жалуешься? — поморщился, как от оскомины, сын. — Этот тебе плох, это нехорошо… Тебя-то это с какого боку касается?..»
Ничегошеньки не понял. Разве о себе речь вела? Что ей в жизни этой надо, кроме счастья для них, кроме того, чтобы им всем было хорошо? И детям их… «А как же, если камень-то на душе, сынок? К кому же идти?» А сын опять поморщился, будто слышат, да не понимают они друг дружку. Ну да пусть…
Рассказал Лиде про стол, который собрала ему мать к приезду: «Знаешь, Лид, и мы себе не всегда такое позволить можем. Честно…» А сам с намеком глядит: вот, мол, и жалобы твои, матушка, вот они на поверку…
Ай, дети!.. За две недели до приезда к столу готовилась, думала, вдвоем с Лидой прибудут с курорта, а невестка опаздывала на работу, не смогла задержаться. Выскочила на платформу — румяная, загорелая, в брюках цветных, приложилась щекой к щеке — и назад в вагон: пять минут вся и стоянка была адлерского поезда. А Мишка высадился, поставил у дежурного отметку на билете.
Стол, конечно, был богатый. Уж как могла. Девчата из Москвы всего навезли, чуть ли не на целую пенсию. Мишка удивлялся: «Неплохо живете!» А у Толика (квартиру ожидали, настроение было горячее) свое самолюбие: «А чем мы хуже других?» — «Давай-давай, — подымал дорогой гость свой стакан, — водочка, если в меру, только на пользу. Доказано и проверено».
На другой день Мишка походил по саду, задержался в прилепившейся к боковой изгороди будочке и, выйдя оттуда, повспоминал с матерью, как каждой весной они вычищали нужник и выливали жидкое на отощавшую землю под деревьями. «Неплохо живете, — повторил Мишка давешнее, — вот она — природа», — и покрутил головой вокруг. Сказал, словно сам никогда тут не жил.
К вечеру он и уехал, никуда, ни к кому не сходил. Готовились, готовились, а ни разу посидеть как следует не пришлось.
Мишка головой под матицу, ходит по хате пригибаясь. «Сынок, помнишь?»— показала, выходя, Ольга на осколочный след. «Еще бы! — Вроде огоньки какие-то вспыхнули в глазах Мишки, уже изготовившегося согнуться под дверным косяком. — Зинк, а ты?» — «Да что ты, сынок, откуда ж ей помнить?»
«Ну, а ко мне когда пожалуете?»— спросил Мишка у всех сразу, уже у самой калитки. Зинка, стягивая кофту на остром животе — Лариску донашивала, — покачала головой, а Толик был готов хоть сейчас, на обеденном перерыве, тронуться. «А что? Вот Санька приедет — и махнем к тебе. Возьму за свой счет неделю — и махнем… Вот Санька…» Санька, Санька… Что ни слово — Санька, словно он и есть тут.
«Это в песне — судьба играет человеком, — говорит о младшем брате Михаил. — В жизни должно быть наоборот». А что поделать, если не все в ней ладится? Хоть разбейся… Вначале и Ольга считала: горе заставит глаза раскрыть. А Саньке все как с гуся вода — такой уж, видно, нрав.
Он еще на службе познакомился с девушкой, карточку матери прислал. «Осторожно — фото», — указал на конверте. Ольга ожидала одинарный, а получила двойной портретик: Санька — стриженый, с оттопыренными ушами, а рядышком — височек к височку — знакомая. Вначале Ольге даже смешно стало: писал, что у них в городке одни матросы да офицеры, а вот нате-ка, уже подцепил. Первое фото — и уже с кралей. Ну, ухарь!..
А как же те-то две, что ревмя ревели, когда цельным корогодом провожали его в армию? Не понять даже было, кому он предпочтение отдает: обеих обнимал и притискивал потерянные головы… Потом одна из них, потоньше которая, за адресом приходила, — не писал он, выходит, ей… Ой, сын!..
«Милой мамане от Вали и Сани»— так складно и надписал на обороте. Как прильнули один к одному, — вроде серьезно глядятся, долго собрались соседствовать. А там шут их знает, нынче это дело простое, слово «невеста» только и в ходу-то, что в загсе.
А ведь напрасно клепала: Санька и тут вроде как учудил — на этой самой Вале с фотокарточки и женился. Невтерпеж, видно, было: даже до конца службы не дотянул — специального позволения добивался у начальства на оформление брака.
Так вот и получилось, что главная очередь пошла вспять: следом за дочкой — Санька, а уж после всех — без лишней прыти, зато и без промашки — расписался самый старший.
…Ольга понимала, что красивая внешность может сыграть с дочерью и злую шутку: многие ребята будут пялить глаза и липнуть к ее заметному в любом кругу лицу. Загодя, исподволь готовила она ее к той поре, когда в душе заплещется тайно-сладостный интерес к парню, к встречам наедине, интерес, который преодолевает не только материнские увещевания…
До поры до времени ей вообще в голову не приходило, что все, через что проходит любая здоровая женщина, уготовано и для Зинки. Участь ее, думала Ольга, иная, вместе им век вековать.
Но когда дочь, привыкнув к работе, найдя в ней определенный вкус, незаметно оформилась в сравнительно ладную девушку, ничем, в сущности, не отличающуюся от сверстниц ни с виду, ни, похоже, душой, Ольга забеспокоилась. Она была уверена, что у дочери, слабой и беспокойной, выпестованной ею, как она считала, «из ничего», не может все в жизни сложиться так, как складывается у большинства людей. С другой стороны, более всего на свете она хотела бы увидеть ее жизнь именно такой, какою живут все нормальные молодые люди.
Когда однажды она приметила у забора поджидавшего Зинаиду паренька, она тут же велела привести его и показать. Это был Толик, и Ольге он сразу пришелся по душе, — своей тихостью и отношением к Зинке. Он вроде бы даже как-то робел от ее старинной красоты лица, — Ольга это чувствовала, сама в девичестве испытывала нечто похожее, оказываясь вблизи интересных мужчин. А сейчас, при взгляде на дочь, ее просто обжигало радостью: вот какая уродилась!..
Толик не боялся ошибиться и, не будучи избалован знакомствами и успехом у девушек, прибился к Зинке крепко, как говорится — раз и навсегда. Ольга, как могла, создавала им условия для встреч, и через очень недолгое время к сыновьям полетели золотые открытки с зацепленными кольцами — приглашение на свадьбу.