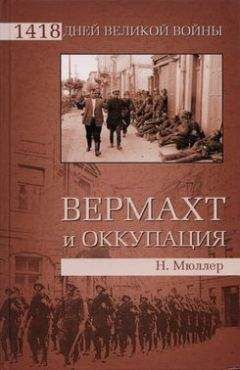— А ты не красней. Ты сама невоспитанной стала: начни тебе что-то рассказывать, как тут же перебиваешь… бестактно.
— Вон ты как закрутил! — усмехнулась она. — Однако, брат, ты растешь…Ну, и что там в очереди было?
— Мадам Казимириха в очереди тебя кралечкой назвала. И сказала, что если ты замуж не выйдешь, то скоро завянешь. Мам, это правда?
— Правда, сынок, — еле слышно вздохнула она.
«Значит, папка домой не вернется!» А вслух прошептал:
— Я не хочу, чтоб завянывала.
— Завянывала, — повторила она раздумчиво.
— Я тогда к бабушке жить перейду, — сказал он серьезно.
— А как же я?
— А ты будешь с этим… с замужником жить.
— С замужником! — улыбнулась она в темноту. — Надо, чтоб и тебя тот замужник любил.
— За Фрица тогда выходи!
— За Фрица нельзя, сынок.
— Почему? Потому, что ты стала НКВДешницей? И по ночам тебя дома не будет.
— Чего это ради? — холодно сына спросила.
— А того, что ты… в «черном вороне» будешь ездить и всех арестовывать.
— Кто тебе это сказал? — встрепенулась она, и кровать отозвалась испугом.
— Я скажу, а ты его заарестуешь, — в темноту прошептал Валерик.
Она повернулась в подушку лицом и затихла, тишину нагнетая звенящую.
Валерик, печалью придавленный, в одиночестве тихом в курилке сидел, когда проходил мимо дядя Ваня-корявочник.
— Дядя Ваня, а Бергер умер.
— Бергер? — остановился корявочник. — Это который?
— Что вашей Монголке подковы подбил.
— Это немец тот? — прошептал дядя Ваня, присаживаясь рядом. — Что потом в ветлечебнице был? Дак я ж его знал! Его еще Оттою звали… Дак помер, говоришь? Ах, ты, батенька мой! Едрит твою налево! И как же это с ним такое, а? Какой ветеринар был правильный!..
— Он ответ получил из Фатерланд.
— Откуда получил?
— Да из Германии, что у него семья погибла под бомбежкой, а старший сын под Берлином убит.
— Под Берлином, — машинально повторил дядя Ваня, оставаясь в думах своих о коротких встречах с умершим немцем. Потирая колено, занывшее раной разбуженной, дядя Ваня закуривать стал. — То-то сегодня я гутентакаюсь с Фрицем твоим, а он куда-то на небо глядит и молчит.
— Утром ветер был из Германии, и Фриц на облака глядел. Он привет принимал от родной Фатерланд, — сказал Валерик. — Отто Бергер придумал это, будто те облачка были письмами от немецких детей и фрау… А Фриц говорит, что дойче солдаты теперь свою радость имеют, когда дует вест.
— Вон оно как! — крутнул головой дядя Ваня. — С понятием немец тот был. Да… Бывало к ветлечебнице подъедешь…
— А под Берлином убит, значит, он по нашим стрелял? — Глядя на бородатый профиль, Валерик попробовал вопросом вывести дядю Ваню из раздумий. Но тот, углубленный в себя, только мундштук папиросы покусывал да смотрел куда-то в жухлую траву, где под ранней луной мятый бок консервной банки отсвечивал.
— Он стал курить очень много и тем утром не проснулся, — добавил Валерик. — А Фриц сказал, что Бергера похоронили на кладбище, где все пленные немцы схоронены. Мы туда в воскресенье пойдем. И Себастьяна возьмем.
— А это кто? — очнулся дядя Ваня.
— Который из колодца вытащил ведро бабки Ландаренчихи. А Володька-шофер сказал, что даст на поминки Отто огурцов и картошки «в мундирах». А Кузьмич возьмет с собой сала и для разбега водочки пару бутылок. И еще он сказал, что водки, сколько ни бери, — всегда мало! И заранее угадать — дело самое дохлое: ее не хватает всегда! Дядя Ваня, а водки всегда почему не хватает?
— Водки всегда не хватает? Дак ее ж не хватает всегда! — развел он руками. — Это ж гадость такая, сколько ни пей! Вот потому ж ее и не хватает…
Помолчали.
Потянуло дымком от бараков: люди ставили самовары на шишках сосновых, опустив в самовар, под крышку, букетик богуна.
Дядя Ваня достал пачку «Севера». И, прежде чем прикурить папиросу, взял ее за табачную часть и в гильзу подул, в пальцах легонько помял-покрутил, табачок разминая.
— Что, на папиросы перешел? — как-то бабушка Настя заметила.
— Да, чтоб с газетой не возиться.
— А с папиросы тебя кашель еще хлеще добивает. Бросал бы курить!
Дядя Ваня лишь рукой махнул, прикуривая папиросу.
И вспомнил Валерик шофера с белой «Победы», что Бергера угощал когда-то вот такими же самыми папиросами «Север».
От нечего делать, тот шофер с «Победы» подошел к Валерику и со словами «А это что у тебя?» — ткнул пальцем в пуговицу на груди.
Валерик прижал подбородок, чтобы разглядеть, что там может быть, как шофер цепко схватил его за нос.
Валерик знал этот прием. Все барачные так хохмили с пионерами из городского лагеря. Знал, но рассмеялся!
Довольный шуткой своей, заулыбался шофер и прогулочным шагом пошел вдоль траншей, в которых работали немцы, кирпичи выбивая из фундаментной кладки какого-то здания.
На «Победе» приехавший Белый начальник приказал подбежавшему Вальтеру пленных собрать.
Немцы поспешнее, чем всегда, стали выходить из руин, и только Бергер не выбрался из траншеи, продолжая работать.
Шофер присел на корточки у края этой траншеи и с терпеливым интересом стал наблюдать, как этот пожилой, с потной лысиной немец короткими и точными ударами лома умудряется выбивать из старинной фундаментной кладки целые кирпичи. И, если какой-то внезапно ломался, Бергер сокрушенно качал головой и цокал языком, будто этот разбитый кирпич был частью его самого и своим разрушением боль причинял нестерпимую.
Почувствовав взгляд на себе, Бергер поднял глаза на шофера и, на лом опираясь, попытался выпрямить спину.
С минуту они созерцали друг друга в молчании. Не найдя враждебности во взгляде русского, Бергер покивал головой, подводя свой итог взаимному разглядыванию, и вздохнул.
Шофер протянул пачку «Севера» с торчащей из нее папиросой.
Бергер мотнул головой отрицательно.
— Сколько лет тебе, немец?
— Пиисят, — усталым шепотом ответил он и показал пятерню растопыренных пальцев, которые от лома и кайла уже не разгибались и сухими, костлявыми крючьями цепенело торчали из ладони.
Русский кивнул понимающе:
— Сам ты родом откуда?
— Гамбург.
— А где воевал?
Бергер глаза опустил на колодки свои, на штанины обтрепанные и тихо сказал:
— Сталинград…
— Сталинград! — оживился шофер, будто друга-окопника встретил. — Меня ранило там! Первый раз.
— И меня там… капут приходил, — Бергер кивнул головой и поднял глаза на шофера.
— Мы, выходит, друг в друга стреляли, — с короткой усмешкой крутнул головою шофер. — Хорошо, что стреляли хреново, а то б…
— Да, хорошо, что хреново, — согласился Бергер и притаенно вздохнул. — Ванюша, давай будем курить.
— Потянуло курнуть? Так в окопе бывало…. От всякого страха — первейшее средство, — протянул папиросу шофер и зажженную спичку поднес. И первая затяжка отразилась на лице Бергера болезненной гримасой отвращения, но папиросу не бросил.
— Эх, солдат, не идет тебе курево, — шофер посочувствовал. — А делать что ты умеешь, кроме этого вот, где стоишь?
— Я есть ветеринар.
— Ветеринар! И тюкаешь ломом тут! А зовут тебя как?
— Бергер. Отто Бергер, ветеринар.
— Ладно, Отто. Держи вот, — протянул шофер пачку папирос. — Покуришь потом. У меня больше дать тебе нечего. Угостить тебя нечем…
— А… давать мне не надо, — печально поморщился Бергер и жестом руки протянутую пачку отстранил. И недокуренную папиросу выронил. И руку к сердцу приложил.
— А, болит, — догадался шофер.
У Бергера губы стянулись невольно, и он виновато кивнул головой.
— А меня, бывает, так прижмет, что ни вздохнуть, ни на помощь позвать сил не хватает. Да и некого звать… А семья твоя где? Они живы?
Бергер плечами пожал.
— Не знаешь… А мои все погибли, — усмехнулся шофер виновато и покивал головой, будто повинен был в гибели их. — Все погибли… А мне все не верится. В хату, бывало, войду, и тут же детей голоса! И сердце заходится болью такой, что хоть плачь! И плакал… И душу выматывал. А потом свою хату продал. Вот продал свою хату — и все! Вместе с их голосами. Вроде как я их предал! Бросил! Думал, что успокоюсь. Забуду. Какое там! — поморщился он. — Тянет к себе моя хата! Так тянет!.. И дети мои по ночам стали спрашивать: «Папка, что ж ты к нам не идешь? В нашей хате чужие люди, а ты все под окнами ходишь да все стоишь и стоишь перед хатой!..»
Шофер прикурил папиросу погасшую и продолжал доверительно:
— И ты знаешь, меня среди ночи пытают. Сердце рвут, на куски разрывают! И ночами, бывает, я к хате своей прихожу. И стою. И на окна гляжу. А светятся если, то будто и я с ними вместе сижу за столом… со своими моими… Скоро, наверно, приду, если не брошу курить. Да… А женка, ну, баба моя — все молчит. Ни голосочка, ни шепота. Перед глазами стоит постоянно. Вот закрою глаза и стоит… в платье ситцевом, что купил перед самой войной. И никак не пойму: то ли плачет она так бесслезно, то ли горько так мне улыбается!.. Ты чего это, Отто? Плачешь никак? Я ж тебе про болячки свои рассказал, а ты вон что надумал. Что за дела…