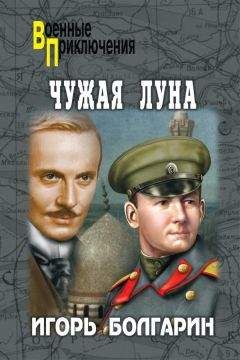— И бумагу дали, — Иван Игнатьевич похлопал себя по груди, где теперь вместо письма атамана Григория Силыча лежал в полотняной торбочке документ, подписанный патриархом, что отец Иоанн (Мотуз) является иереем Российской православной церкви.
Отец Анемподист вздохнул:
— Сожалею, креста подходящего не нашли. Видать, тоже… при обыске…
— Попытаемся как-то поправить дело, — пообещал Кольцов. — Подыщем.
— В очередной церкви? — насупился отец Анемподист. — При обыске?
— Нет, конечно, — без обиды ответил Кольцов. — Понимаю вас. Но не переносите свою обиду на все наше ведомство. Не будь его, поверьте, в стране творился бы хаос и повальные грабежи.
— Уже творятся. На Кубани люди восстали. В Тамбове тоже. В Кронштадте…
— Вы хорошо осведомлены.
— Так ведь в одном ковчеге плывем. А море штормит, и не видно берега.
— После такой войны трудно было бы сразу ждать полного штиля — прибегну к вашему сравнению. Это как бросить в воду камень. Взбурлит вода, а потом еще долго колышется, пока успокоится. Да ведь уже и успокаивается. Верно, и вы это замечаете?
— Мы — нет. Даже наоборот. И, похоже, скоро еще хуже будет.
Кольцов промолчал. Он не стал спорить. Понимал: обида, нанесенная патриарху комиссаром Хрусталевым, не скоро загладится. И загладится ли?
Они попрощались. Кольцов по мирской привычке, или скорее всего по забывчивости, протянул руку отцу Анемподисту для рукопожатия, и тот неожиданно принял ее.
— Вы показались мне порядочным человеком, — пожимая руку Кольцова, сказал он. — Если бы таких, как вы, было бы побольше, еще на что-то светлое можно было бы надеяться.
— Спасибо на добром слове, отец Анемподист, — сказал Кольцов и затем добавил: — А я верю… нет, я абсолютно убежден, что честных и порядочных людей на нашей земле все же большинство. И я не сомневаюсь, рано или поздно мы одолеем этих хрусталевых.
Отец Анемподист перевел взгляд на Ивана Игнатьевича:
— Прощайте и вы, отец Иоанн. Рад нашему такому необычному знакомству. Буду вспоминать и молиться за вас.
Они уходили. Прежде чем свернуть за угол, Кольцов обернулся и увидел все еще стоящую вдали одинокую фигурку отца Анемподиста. Заметив, что Кольцов обернулся, священник послал им вслед свое благословение.
На следующий день Гольдман показал Кольцову его собственный кабинет. Скромная комнатка располагалась на первом этаже одного из самых старых домов Лубянки среди сложного лабиринта нескольких зданий ВЧК.
Кольцов критически осмотрелся: комнатка за ненадобностью давно пустовала или служила какому-то начальству для временного пребывания — пока приводили в порядок новый кабинет в одном из основных зданий. Здесь все было старое: старый, заляпанный чернильными пятнами канцелярский стол, дешевенькие стулья для хозяина кабинета и двух его посетителей — больше посетителей здесь не предполагалось. И еще примитивная вешалка у самой двери. Даже телефона здесь не было: не полагается или не успели поставить. И еще в полстены за его спиной висела большущая карта «Российских императорских железных дорог».
— Ну, а это еще зачем? — указав на карту, Кольцов насмешливо посмотрел на Гольдмана.
— Как это «зачем»? Я тебя, Паша, хорошо знаю. На одном месте долго не усидишь. Понадобится тебе, к примеру, в Омск, Томск или в какую-нибудь Голозадовку. Глянул на карту — и уже знаешь, ходят ли туда поезда, сколько туда верст, как долго ехать. И вообще! — даже слегка рассердился Гольдман: — Зайди к любому начальнику, у каждого на стене что-нибудь висит, какая-нибудь фитюлька. А у тебя, чувствуешь, вся Россия за спиной! Какой масштаб личности!
— Чувствую! Очковтирательство. Афера. Сегодня, к примеру, личность будет добывать обычный поповский крест для Ивана Игнатьевича, потом попытается что-то выпросить для типографии, хотя бы килограммов пятьдесят белой мелованной бумаги, потом… потом будет сочинять текст листовки, которая пойдет начальству на утверждение. А начальство не сразу ее утвердит, а заставит десять раз ее переписать, и не потому что она плохо написана, нет. А лишь для того, чтобы доказать личности, что она пока никакая не личность. Без всяких объяснений. А ты, Исаак Абрамыч, о масштабе личности! Словом, сними, к свиньям, эту карту и повесь что-нибудь скромнее, какие-нибудь цветочки.
— Цветы не положено, — не согласился Гольдман. — Вождей мировой революции можно. Только у нас на складе никого нет. Прислали шесть Карлов Марксов, тут же расхватали.
— Ну, любой какой-нибудь повесь. Менделеева, Шерлока Холмса. На крайность, даже Навуходоносора.
— Тут такое дело, Паша, — замялся Гольдман, чувствуя, что Кольцов настойчиво и упрямо отвергает карту. — Я говорю, тут не все так просто. Портреты, понимаешь, маленькие, а стена большая.
— Ну, и в чем проблема?
— Не то что бы проблема, — жевал слова Гольдман и наконец решился: — Тут, понимаешь, кусок стены изуродованный. Был вмурован сейф, его выломали, а стену… ну, не успели. А Герсон получил нагоняй от Феликса Эдмундовича: чтоб сегодня же, приказал, у Кольцова был кабинет.
— С этого бы и начинал, — понял затруднение Гольдмана Кольцов. — Ладно! Пусть висит!
— А про крест ты чего вспоминал? — у Гольдмана отлегло от сердца и он решил поговорить с Кольцовым просто ни о чем.
— Не мне. Гостю нашему. Он у нас теперь иерей, их словами: священник, — пояснил Кольцов. — Кстати, можешь у него исповедаться. Все грехи по знакомству отпустит.
— У меня для этого Фрида Марковна есть. Я ей иногда исповедуюсь. Тоже отпускает, — и затем Гольдман поинтересовался: — А не подскажешь, какой крест ему нужен?
— Слушай, ты начинаешь деградировать. Я тебе рассказываю: нашему гостю присвоили звание. Как бы тебе это объяснить: не самое высокое в их православных войсках, но все же офицерское. Был дьякон, это что-то вроде сержанта. А теперь ему офицерское — иерей. И нужен соответствующий званию крест. А у патриарха ничего такого не нашлось. Я пообещал достать.
— Ну, и в чем дело! — удивился Гольдман. — Через пару часов у него будет крест. Кстати, а какой нужен: золотой, серебряный?
— Лучше всего хороший медный. Дорога у него предстоит дальняя. За золотой или серебряный и убить могут, — пояснил Кольцов и спросил: — А где ты его достанешь?
— Секрет фирмы.
— Не вздумай только, пожалуйста, в каком-нибудь храме реквизировать.
— Ты плохо обо мне думаешь, Паша. Зачем мне грабить, если уже есть награбленное. В Гохране, у Юровского.
— Юровский что, все еще в Гохране?
— А куда он денется?
— Должен бы повеситься. Детей ведь расстреливал.
— Вот тут ты, Паша, положим, не совсем прав. Я тоже не люблю Юровского за его паскудный характер. Но закавыка в другом: дети-то царские.
— Дети, они дети и есть. Чьи бы они ни были. Они еще не успели ни перед кем ничем провиниться.
— Рассуждаешь, как гувернантка. Выросли бы — натворили дел. Нет, Паша, тут я не на твоей стороне.
— Ну, и ладно. Хорошо, что тебе столько власти не дадено, как тому же Юровскому Ты бы, возможно, еще больше чего натворил.
Гольдман заметил, что Кольцов нахмурился, замолчал.
— Ну, чего ты! — примирительно сказал он. — Юровский сам за свои грехи и ответит. Если есть Бог — перед ним. А нет — перед людьми. Люди ничего не забывают.
Кольцов продолжал молчать. Гольдман немного потоптался в кабинете, подошел к карте, отогнул край. Кольцов заметил под нею неглубокую, но грубо развороченную нишу.
— Знаешь, если тебе эта карта не по душе, я тут, в кабинете у Ходжакова, приметил большой портрет Льва Давыдовича Троцкого. Он, пожалуй, это безобразие прикроет, — попытался примириться Гольдман с Кольцовым: — Я у него сегодня же этот портрет выменяю.
— Не трожь карту! — сухо сказал Кольцов.
— Хотел как лучше.
— Не надо как лучше.
— Ну, как знаешь. Так я пошел, — Гольдман дошел до двери, обернулся: — Так я это… пошел добывать тебе крест.
— Зачем тебе самому идти? Бушкина отправь, — подобрел Кольцов. — Он этот Гохран вдоль и поперек знает. Их со Старцевым там конспирации учили. Это когда их в Париж командировали.
— Бушкина я отправил в Мытищи.
— Зачем?
— Все хочешь знать? В моей хозяйственной работе тоже кое-какие секреты водятся. Не могу разглашать.
— И не надо! Не больно хочется в ваши секреты вникать. Своих по горло, — Кольцов уселся за стол, положил на него локти. Неудобно. Пододвинул стул поближе. Снова уселся. Дотянулся до чернильницы, обнаружил возле нее перьевую ручку. Макнул перо в чернила. Пробуя перо, вывел на четвертушке бумаги красивым каллиграфическим почерком: «Милостивый господин…». Немного поразмышлял. Заметив, что Гольдман краем глаза из-за плеча наблюдает за его манипуляциями он снова обмакнул перо и размашисто продолжил: «…и товарищ Гольдман И.А. А не пошли бы вы к…»