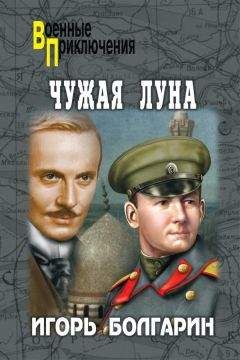— Не сомневайтесь, — успокоил его Кольцов.
— И еще по секрету. Я получил от Натана письмо. Его привез какой-то француз. Но он не пожелал мне представиться и бросил его в почтовый ящик. Знаете, такое толстое письмо, что оно с трудом пролезло в ящик. Честно скажу, я подумал, что брат решил поделиться со мною долярами. Но там были только фотографии, двадцать восемь штук: Натан и Исаак, их жены и дети, сваты и сватьи и их дети, и их внуки, пусть все они живут до ста лет! Нет, вы мне скажите, разве нельзя было положить между фотографиями хоть немного доляров?
— Ну, и зачем они вам? — спросил Кольцов.
— Вот! Они, наверное, подумали так же, как и вы. Зачем? Но я тоже хочу, как всякий приличный человек, хотя бы один раз в неделю сходить в Торгсин.
— Может, у них не было такой возможности. Это все же контрабанда!
— Да, конечно! Когда не хочешь что-то отдать, всегда можно найти накой-нибудь закон. «Контрабанда!» — и, продолжая все тем же сварливым голосом, Беня спросил: — Мне сказали, вы теперь у нас?
— Да. Надеюсь, временно.
— И что за дело вам определили?
— Тупое и бессмысленное: искать то, чего здесь нет.
— Здесь есть все, только надо уметь искать, — уверенно сказал Беня и спросил: — Так все же, что вы ищете?
— Типографию. Там печатный станок, шрифты, краски, бумага, словом, все необходимое для печатанья агитлистовок.
— Вам это нужно? Я бы вас понял, если на нем можно было печатать деньги, — сказал Беня Разумович. — Нет, ничего подобного я не видел.
Кольцов решил больше не тратить время попусту, откланялся и пошел дальше. Он уже пересек двор и хотел войти в здание, когда его догнал запыхавшийся портной.
— Павел Андреевич, постойте. Вы сказали: бумага.
— Какая бумага? Я говорил о печатном станке, о типографии.
— Нет-нет! Вы сказали: бумага.
— Ну, допустим, я так сказал.
— Не знаю, может, это наведет вас на какую-то мысль, но вон в той пристроечке стоят какие-то ящики. Но дело не в этом. Там еще лежит большой рулон бумаги. Мы ею потихоньку пользуемся, если надо кого-то культурно обслужить и что-то, как в прежние времена, аккуратно завернуть. Слушайте, до чего мы дожили! Соленую рибу вам дают прямо в руки, крупу насыпают в фуражку.
— Где эта бумага?
— Идемте.
Они вновь прошли в другой конец двора. Это были замусоренные задворки большого учреждения, куда, как водится, сносят и свозят все ненужное, но которым в трудную минуту еще надеются воспользоваться. А потом забывают.
Иными словами, это была обычная свалка местного значения.
Пристройка к сараю походила на большую собачью будку. Дверь была не заперта. Точнее, она была прикрыта, и через одну из двух петель, на которых должен был висеть замок, продета веревка с дощечкой, на которой красовалась сургучная печать. Этот «медальон» существовал сам по себе и к двери имел косвенное отношение.
Беня по-хозяйски распахнул ворота. Первое, что Кольцов увидел в сумерках сарайчика: большой рулон типографской бумаги. Дальше у стены стояли в ряд три деревянных ящика: большой и два поменьше. Кольцов поискал глазами какой-нибудь кусок железа, которым можно было приподнять доски и узнать, что в ящике.
Не найдя ничего подходящего, он поднял булыжник и с его помощью проломил пару досок и затем запустил в ящик руку. Он долго там что-то ощупывал.
Беня напряженно ждал.
— Она! — наконец выдохнул Кольцов. — Типография.
— Странно! — удивился Беня. — Вы, конечно, уже ходили по городу. Заметили, все афишные тумбы, все телеграфные столбы, даже заборы и стены домом обклеены различными объявлениями. Продают, покупают, ищут работу, женятся, лечат от всех болезней, изгоняют бесов и снимают порчу. Печатный станок, работающий круглосуточно, — это мильоны. А этот валяется на свалке. Нет, это не укладывается в моей голове.
— Может, случайно потеряли? Забыли, — предположил Кольцов.
— Забыли, — хмыкнул Беня. — Мильйонеры!
Типографию, и верно, почти забыли. Когда Фрунзе за ненадобностью отправил ее из Мелитополя в Москву, в ВЧК была своя хорошая типография, и ее мощности вполне хватало. Подаренную Фрунзе решили спрятать до лучших времен. И постепенно за чередой бесконечного количества дел о ней забыли. Дзержинский был один из немногих, кто все еще помнил о ней
Обрадованный этой находкой, Кольцов поднялся к Герсону и рассказал ему о своей находке. Но это было лишь полдела. Нужны были печатники, нужен был метранпаж. Чтобы до конца завершить все дела с типографией, надо было все же уже сегодня ехать на Ходынку. Кольцов надеялся с кем-то там договориться, кого-то перевербовать и, если с этим ничего не получится, разместить у них свой заказ на первую партию листовок. Герсон поддержал его и даже предложил для поездки на Ходынку автомобиль.
Все оказалось проще простого. Бывших печатников фронтовой типографии вместе с метранпажем не уволили. По распоряжению Дзержинского их оставили в типографии ВЧК. Кольцов познакомился со всеми шестью работниками бывшей фронтовой типографии и с метранпажем, пожилым подслеповатым человеком с интеллигентной бородкой клинышком. До Гражданской войны Александр Иванович Фадеев работал курьером у знаменитого книгоиздателя Сытина, повзрослев, стал работать в типографии и одновременно помогал большевикам-подпольщикам, печатал прокламации, воззвания. А в семнадцатом он оставил сытинскую типографию, но не оставил профессию. Его талант печатника оказался очень востребованным революцией.
Кольцов задал им один короткий вопрос:
— Когда?
— Когда надо? — спросил Фадеев.
— Завтра, — ответил Кольцов.
— Если так надо Советской власти, значит, типография начнет работать завтра, — и, подумав, он добавил: — Если, конечно, есть помещение?
Помещение было.
Домой Кольцов вернулся ночью. Его остановил у двери неожиданный шум, смех, голоса. «С кем это так веселится Иван Игнатьевич?» — подумал он и открыл дверь.
В гостиной помимо Ивана Игнатьевича был еще Бушкин и, полная неожиданность, Семен Красильников. Иван Игнатьевич ютился, как и прежде, в облюбованном уголке гостиной, но сейчас на равных со всеми сидел в своем черном облачении за столом, и на его груди медово поблескивал хорошо начищенный медный крест.
Красильников вскочил со стула и обнял Кольцова.
— И опять здравствуй, — весело сказал он.
— Почему — «опять»? — удивленно спросил Кольцов.
— Так ведь у нас с тобой, Паша, всю жизнь: то — здравствуй, то — прощай. Когда уже наша жизнь в тихую заводь завернет?
— Уже завернула, — хмуро сказал Кольцов и пожаловался: — Круто завернула. Тише заводи не бывает. Собачья конура, стол, стул. Сиди и вой! Хочешь, на луну, хочешь, на солнце. Полная свобода выбора. Кончилась моя бедовая жизнь, Семен! Стреножили меня! Все!
— Да что ты, дружаня! Что ты! Вспомни, из каких переделок выбирались! — Красильников ободряюще похлопал его по спине. — Мы с тобой, Паша, еще поскачем по воле! Еще потопчем ковыли!
— Ну, помиловались, и за дело! — сказал Бушкин и отправился на кухню. Следом за ним туда же отправился и Красильников.
И вскоре на столе появились чашки, ложки, хлеб, кольцо колбасы, с десяток уже очищенных тараней — словом, все, что нашлось в пока еще не до конца обжитой квартире Кольцова.
Потом в дверь снова постучали. Бушкин пошел открывать и вернулся в гостиную с Гольдманом.
— Пьянствуете? — оглядев стол, строго спросил Гольдман.
— Ну, положим, собрались отметить, — с нарочитой дерзостью в голосе сказал Красильников. — А что?
— А то, что велено поломать вашу трапезу!
— Это уже невозможно, потому что стрелки манометра подошли к красной черте. Могут подорваться крышки котлов, — сказал Красильников.
— Запретить не имею полномочий. Но хозяина забираю.
— Не получится.
— У меня — нет. У Феликса Эдмундовича получится, — Гольдман оглядел компанию, остановил взгляд на Кольцове. — Тебя, Паша, ждет Дзержинский.
— Это что? Такая у тебя иезуитская шутка?
— Если это шутка, то не моя, а Герсона. Он разыскивал тебя по всему Управлению. Я по дури на него налетел. Дальнейшее, надеюсь, тебе не нужно рассказывать.
Уже одетый, Кольцов заглянул в гостиную, оглядел приунывших товарищей.
— Все, как и сказал: посадили меня на цепь. Единственное утешение: цепь пока еще длинная.
Дзержинский извинился, что был вынужден потревожить его в столь позднее время. И положил перед Кольцовым его же отпечатанную на машинке листовку.
— Владимир Ильич ознакомился. Никаких возражений.
— Я не вижу его подписи.
— Павел Андреевич! Я привык доверять Ленину на слово, — жестко сказал Дзержинский. — И вам советую.
Герсон внес в кабинет поднос с двумя стаканами чая и с горсткой бубликов. Поставил поднос на приставной столик.