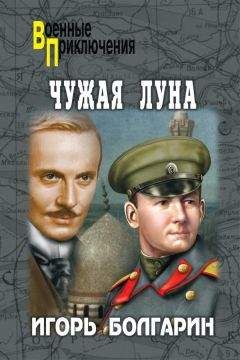Гольдман, прочитав написанное, понял, что Кольцов сменил гнев на милость.
— Хулиган! — улыбаясь, сказал он и поднялся: — Ухожу! Но совсем не туда, куда ты хотел меня послать.
И он ушел.
Когда Кольцов остался один, он снова повертелся на стуле, как бы утверждая себя на нем. Снова положил на стол локти и так в задумчивости застыл. На мгновенье подумал о том, что кончилась его молодость, кончилась боевая, опасная, но такая насыщенная событиями интересная жизнь. Теперь до конца своих дней он будет сидеть в этом или подобном кабинете, решать какие-то мелочные и бессмысленные дела, ссориться и спорить из-за них и время от времени с завистью поглядывать на карту с такими притягательными названиями «Севастополь», «Феодосия», «Херсон», «Каховка» или же малознакомыми, но оставшимися на слуху и ставшими мечтой — «Царицын», «Екатеринбург», «Омск», «Кронштадт». Там будут хлестать колючие ветры, носиться пронзительные метели, бушевать ливневые дожди… Там будет жизнь!
А здесь, в тесной коморке — сиротливое одиночество и тихое умирание.
Разложив на столе чистые листы бумаги, он снова потянулся к ручке и, немного помедлив, вывел:
«Рабочим и крестьянам!..»
Затем вычеркнул «и», вместо нее поставил запятую и продолжил:
«… и всем, кто независимо от причин, покинул свою Родину — Россию! Дорогие товарищи…».
Потом он подумал о том, что далеко не всех их можно назвать товарищами. Да и вернуться домой, в Россию, он собирается звать не только товарищей, не только тех, кто сочувствует новой власти, а всех, кто оказался на чужбине и понял, что жить там не сможет, но и возвращаться домой боится. Слишком хорошо поработала белогвардейская пропаганда и сумела вселить в их души страх. Он же хочет позвать вернуться домой всех, кто считает Россию своей Родиной и не мыслит без нее своей жизни.
Он вычеркнул слово «товарищи» и поверх него написал «земляки».
Прежде чем начать писать текст, он долго ходил по своему крошечному кабинету.
Кто-то распахнул его дверь и удивленно уставился на него:
— А Сидоровский? Где Сидоровский?
— Не знаю, — пожал плечами Кольцов. — Должно быть, его переселили в другой кабинет.
— А коробку с «домино» он тут, случайно, не забыл?
— Не видел.
— Если обнаружите, передайте их Маслову. Собственно, Маслов это я и есть.
— Обещаю. Обязательно верну.
Дверь захлопнулась.
Кольцов снова сел за стол, обмакнул перо в чернила и еще долго держал его занесенным над листом бумаги. Затем стал решительно писать:
«Окончилась Гражданская война и на всей территории России прочно и навсегда установилась рабоче-крестьянская власть. Тысячи и тысячи российских граждан, не являющиеся убежденными классовыми врагами пролетарской власти, в силу самых разных причин оказались на чужбине.
Настало время изменить отношение ко всем, вынужденно оказавшимся в изгнании…»
Он снова походил по кабинету и, не присаживаясь, навис над частично исписанным листком и торопливо продолжил:
«В настоящее время, когда Советская Россия приступает к строительству новой хозяйственной жизни, везде, во всех отраслях производства, в городе и в деревне нужны ваши руки!..».
Текст листовки давался Кольцову мучительно трудно. Он снова ходил по кругу вокруг стола, с трудом изобретая убедительные слова об амнистии.
«Собственно, а чего тут придумывать? — успокаивал он сам себя. — Нужно просто довести до читающего листовку человека главную мысль о том, что Советское правительство объявляет амнистию всем гражданам. Всем, без исключения. Виноватым и невиновным. Всем, кто после перенесенных испытаний искренне стремится в Россию. Если, конечно, они твердо решили включиться в строительство новой жизни».
Но тут же его одолели сомнения:
«Это, все же, только слова. А нужны гарантии. Причем самого высокого, правительственного, уровня. Скажем: ВЦИКа. Только такой гарантии люди могут поверить. Но такой гарантии у них пока нет. Даже Дзержинский засомневался, возьмет ли ВЦИК на себя такие обязательства… Если же таких гарантий не будет, стоит ли ввязываться в это предприятие? Чтобы не выглядеть потом козлом, который ведет стадо на бойню».
И он решительно написал:
«ВЦИК заранее объявляет, что никто, подчеркиваем, никто, добровольно вернувшийся на Родину, не будет подвергнут репрессиям».
Кольцов решил: если эти строки о гарантиях ВЦИКа будут каким-то способом из листовки изъяты, это станет сигналом ему сворачивать свою самодеятельную публицистическую деятельность и любым способом избегать ее. Он хорошо помнил Зотова. Таких, как он, не единицы. Они в своей злобе могут свободно пустить «под тройки» состав тех, кто вернется, поверив листовкам.
Кольцов еще несколько раз возвращался к своему сочинению, вычеркивал какие-то слова, дописывал другие.
Во второй половине дня он отдал все им написанное, тщательно отредактированное и выверенное машинисткам и уже отпечатанный текст отнес помощнику Дзержинского Герсону.
— Пусть Феликс Эдмундович ознакомится. Если у него не будет никаких замечаний, он обещал подписать это во ВЦИКе. Лучше, если подпишет сам Ленин.
— Вы многого хотите, Павел Андреевич! Ленин у нас один, а важных дел — горы. Может быть, Троцкий? Амнистия бывшим белогвардейцам — это все же по его ведомству.
— Нет-нет! Ленин! — настойчиво попросил Кольцов.
Герсон бегло прочитал текст, поднял глаза на Кольцова:
— Сами сочинили?
— А что? Плохо?
— Наоборот. Вы — прирожденный публицист. Все убедительно, ни одного лишнего слова.
— Спасибо за поддержку.
— Думаю, Ленин согласится с Феликсом Эдмундовичем.
Кольцов ушел.
Вторую половину дня он посвятил поискам типографии. После самоликвидации Южного фронта Фрунзе за ненадобностью отправил ее в Москву и, в конечном счете, она оказалась на Лубянке. Но ни в хозуправлении, где, по идее, она должна была находиться, ни в других отделах о ней никто ничего внятно не говорил. Везде, к кому бы Кольцов ни обращался, ему отвечали:
— Слышали. Но где она сейчас, не знаем.
Наверняка, что-то о ней знал Дзержинский, но он едва ли не с утра уехал по делам, и Герсон не знал, вернется ли он вечером на Лубянку или сразу же уедет домой.
По поручению Дзержинского, типографию принимал у представителей Южного фронта бывший начальник ХОЗУ Кашерников, но его вскоре откомандировали по каким-то делам в Швецию. И так получалось, что прояснить судьбу типографии может только Дзержинский
Герсон, которому Кольцов уже порядком намозолил глаза, вдруг что-то вспомнил:
— А в нашей типографии ВЧК вы не наводили справки? Может, они что-то знают?
В самом деле, почему он сразу же не подумал о печатниках ВЧК? Они просто могли присоединить ее к своей типографии или отдать кому-то за ненадобностью.
Но выяснилось, что типография ВЧК находится едва ли не на самой окраине Москвы, в районе Ходынского поля. Быстро туда съездить не удастся, и Кольцов перенес поиски следов типографии на следующее утро.
Уставший и злой после бессмысленных хождений по кабинетам и впустую потраченного времени, он возвращался по внутреннему двору Лубянки к себе в кабинет.
— Боже мой! Павел Андреевич? — услышал он за спиной чей-то голос.
Обернулся и увидел своего давнего знакомого, портного спецателье Беню Разумовича.
— Нет, подумать только! Вы четыре дня здесь. Нет, таки пять. И мы ни разу не встретились. Кого не хочешь видеть, так видишь пять раз на дню, а кого хочешь — так нет. К слову сказать, вы получили от меня небольшой презент? Простынки, пододеяльники, полотенца, носовые платки?
— Да, я вам очень благодарен.
— Вот! Это то самое главное для мужчины, который уже намерен жениться.
— Кто? — удивился Кольцов.
— Но мне сказали, что вы получили квартиру? Или это неправда?
— Получил, — согласился Кольцов.
— Тогда, возможно, меня обманули, что вы все еще не женаты?
— И это правда.
— Так слушайте меня внимательно. Вы уже в том возрасте, когда надо жениться. Возможно, вы тянули бы с этим, если бы у вас не было приданого. Но, слава богу, оно у вас есть. И квартира тоже. Попомните мое слово, к осени вы уже будете очень счастливы. Вы поняли мой намек?.. Кстати, я вас очень часто вспоминаю. И Фрида тоже.
— Ну, как там, в Париже, ваши братья? Надеюсь, они процветают? — Кольцов перевел разговор в другую плоскость.
— Какой еврей скажет вам, что он процветает? И знаете почему? Сколько бы денег у еврея ни было, он всегда думает, что у соседа их больше. И это очень портит настроение, — Беня наклонился к Кольцову и, перейдя на полушепот, сказал: — Надеюсь, это останется между нами.
— Не сомневайтесь, — успокоил его Кольцов.
— И еще по секрету. Я получил от Натана письмо. Его привез какой-то француз. Но он не пожелал мне представиться и бросил его в почтовый ящик. Знаете, такое толстое письмо, что оно с трудом пролезло в ящик. Честно скажу, я подумал, что брат решил поделиться со мною долярами. Но там были только фотографии, двадцать восемь штук: Натан и Исаак, их жены и дети, сваты и сватьи и их дети, и их внуки, пусть все они живут до ста лет! Нет, вы мне скажите, разве нельзя было положить между фотографиями хоть немного доляров?