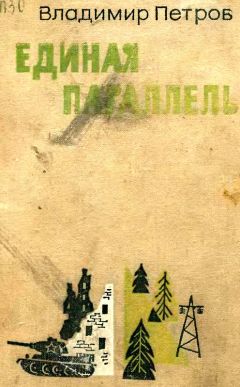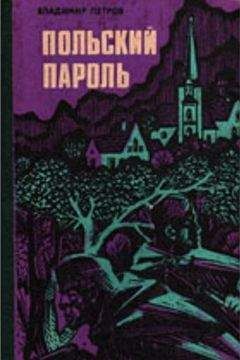Он вздрогнул, увидев отсюда, с высоты птичьего полета, почти зеркальное отражение танковой армады — в противоположной стороне, на западной окраине поля. Зреющая рожь и тут была уже прострочена ровными танковыми рядами; как и напротив, ряды эти были столь же бесконечными и исчислялись не десятками, а сотнями машин. Здесь шли немецкие танки.
Под утренним солнцем в черной пыли российского чернозема две танковые лавины, набирая скорость, неслись друг другу навстречу. На изломанном рубеже их встречи возник чудовищный грохот, от которого закачалась, застонала земля, высоко вздыбились смерчи взрывов, стальной скрежет располосовал небеса…
Начиналась Железная битва, решительная и решающая.
Теперь, когда окончательно определился крах операции «Цитадель», штаб армейской группы «Юг» лихорадочно занялся обороной харьковского направления: посыпались приказы, срочные рекомендации, зачастили инспектирующие в войска. Генерал Якоб, начальник инженерно-саперного управления сухопутных войск оказался намного дальновиднее командующего группой армий фельдмаршала фон Манштейна — именно Якоб еще в марте настаивал на строительстве вокруг Харькова шести оборонительных полос.
Впрочем, удивляться не приходилось, учитывая чрезмерную самоуверенность Эриха фон Манштейна — это по его инициативе был снят с белгородского участка и спешно перебрасывался в Донбасс танковый корпус СС (в предвидении особой опасности со стороны советского Юго-Западного фронта). Манштейн лично заверил фюрера, что белгородско-харьковское направление абсолютно стабильно в ближайшей перспективе: после ошеломляющих ударов под Обоянью и Ржавцами и особенно после Прохоровского танкового сражения, русские-де не способны наступать на этом участке.
Сколько развязной самонадеянности в этой войне! Слишком много даже для традиционно прусской чванливости, которая характеризует германский генералитет…
Конечно, война есть как раз та сфера, где дерзость, самоуверенность оправданы, особенно в расчете на впечатлительного противника. Но должно же быть чувство меры, элементарная трезвость ума в оценке ситуации!
С горькой усмешкой Крюгель вспомнил, как сам когда-то был опьянен «идеалами героической солдатской устремленности», прозорливостью «гениальных предвидений». Это его в июле сорок первого генерал-полковник фон Бок на полном серьезе инструктировал в Минске как командира особого инженерного батальона по разрушению Московского Кремля.
Его тогда, признаться, смущал лишь этический аспект секретной акции, уж очень она попахивала обыкновенным варварством. Но ему и в голову не приходила мысль об авантюризме этой затеи, такой же бредовой, как официальная нацистская доктрина «лебенсраум»[18] или геббельсовский лозунг тотальной войны, который недавно обосновал рейхсминистр крикливой статьей в газете «Дас Райх».
Кстати, на фоне пропагандистской трескотни в этой статье явно проглядывались пессимистические ноты, она и называлась недвусмысленно «Сумерки войны». Самое примечательное состояло, пожалуй, в том, что руководство третьего рейха впервые публично признавало недооценку военного потенциала Советского Союза.
Что это — запоздалое прозрение? Нет, просто ловкий логический финт в пользу аргументации тотальной войны. До полного прозрения еще очень далеко, если оно вообще когда-нибудь наступит…
Крюгель в ожидании поезда глядел на вечерний Харьков и думал, что этот угрюмый город всегда почему-то навевает мрачные мысли. Так было в первый приезд сюда, в начале июля, такое ощущение и сейчас, двадцать дней спустя.
Огромный, хаотически разбросанный «город двух холмов» не нравился Крюгелю. Пресловутую славянскую ненависть здесь, казалось, источал каждый камень, каждая окопная глазница многочисленных развалин, не говоря уже о людях, которые так и не научились лояльности жителей «фронтового города», специально выделенного из украинского гебитскомиссариата.
Харьков не раз упоминался в победных реляциях оберкомандовермахта, в патетических обзорах «радиогенерала» Дитмара: именно из этого города начала свой победный рывок на Сталинград шестая армия, здесь трубили фанфары весной сорок второго (изюм-барвенковский котел), и особенно нынешней весной, когда стремительным танковым контрударом Манштейн разгромил «красных» и вернул временно потерянный «ключ Украины».
Наводненный фельджандармерией, это был город, глядевший исподлобья, и, несомненно, — город роковых начинаний для немецкой армии. Более чем красноречиво это подтвердил трагический конец армии Паулюса, уничтоженной в приволжских степях, а совсем недавно — крах операции «Цитадель», исходный трамплин которой был определен Манштейном именно здесь, в Харькове.
И то, что «восточный бастион» падет в ближайшее время, не составляло секрета даже в штабе группы армий «Юг». Там, в Запорожье, в секретной оперативной директиве уже вынесен приговор городу: тотальное минирование (под соусом решающего средства обороны).
Крюгель равнодушно смотрел на серые лица мужчин и женщин, подгоняемых солдатами к товарным вагонам— их отправляли на строительство оборонительных рубежей, — и думал, что семь лет назад, будучи иностранным инженером-специалистом на далекой алтайской стройке, сделал правильный вывод: этот народ, уходящий национальными корнями в сумбурное азиатское прошлое, нс способен к цивилизации. Война не поколебала этого убеждения.
Более того, он считал, что германский восточный поход, а значит, и последующая историческая ассимиляция русских, украинцев есть оправданная, хотя и драматическая неизбежность, веление времени, несущее в конечном счете благо. Только в слиянии с другими народами — с немцами, в первую очередь — славяне приобретут главные социальные качества, которые приобщат их к европейской цивилизации: самодисциплину и волевую устремленность.
Другое дело, что нацистские фюреры извратили и опошлили эту объективную историческую тенденцию, грубо и открыто толкнули немецкую армию на путь каннибализма и разбоя.
Конечно, именно в этом одна из коренных причин провала восточного похода. Теперь за «сумерками войны» неизбежно последуют «потемки возмездия», а колесо войны после временного колебания уже начинает набирать обороты возвратного вращения. Фронтовая разведка представила данные о скором начале большого русского наступления на Харьков. И оно начнется — вне всякого сомнения.
Перед платформой, по третьему пути, в сторону Полтавы медленно потянулся длинный состав с танками, перестук колес гулко отдавался вокруг. На обшарпанной броне Крюгель разглядел знакомый трафарет: кинжал в кольце — боевой знак эсэсовской дивизии «Тотенкопф» («Мертвая голова»). Щемяще кольнуло сердце: жив ли тот крепыш майор, белозубый оптимист эльзасец? Или обуглился вместе со своим галльским петухом в стальном танковом чреве?..
К Белгороду поезд подошел в полночь — в пути случилось несколько задержек из-за неисправности железнодорожной колеи. Почти сразу же на патрульной дрезине Крюгель выехал в Тамаровку, по рокадному полотну в сторону Сум.
Тамаровка интересовала штаб группы армий но двум причинам: здесь, на второй полосе обороны, находился крупный опорный пункт, хорошо оборудованный в инженерном отношении. Кроме того, тут планировался исходный рубеж для танкового контрудара на случай возможного прорыва русских.
Генерала Бернута особенно беспокоило противотанковое минирование. Крюгель, как специалист минно-подрывного дела, должен был от его имени провести строжайшую инспекцию и на месте устранить обнаруженные промахи.
Ну, а у самого Ганса Крюгеля были не менее веские причины побывать именно в Тамаровке.
Он отнюдь не рвался в прифронтовую зону и мог бы в этот вечер вместе с другими штабными полковниками спокойно смаковать белый «го-сотерн» в закрытом офицерском кафе. Однако обстоятельства требовали срочной встречи с Алоизом Кирхгофом, подполковником, командиром танкового полка, давним другом Ганса Крюгеля. Они были связаны с 1939 года, со времени учебы на офицерских курсах при саперном училище в Дессау-Росслау.
Кирхгоф в свою очередь был другом капитана Клауса Шенка фон Штауфенберга, баварского графа, рослого, аристократически небрежного молодого офицера, который при первом же знакомстве поразил Крюгеля смелостью суждений. Позднее Штауфенберг стал душой «тайной Германии» — узкого круга антинацистски настроенных офицеров. Все они, исповедуя ницшеанство с его культом сильной личности и господством элиты, тем не менее ненавидели «бесноватого ефрейтора»: еще в тридцать восьмом году он самолично назначил себя верховным главнокомандующим и с тех пор с маниакальной одержимостью тащил в пропасть германскую нацию.