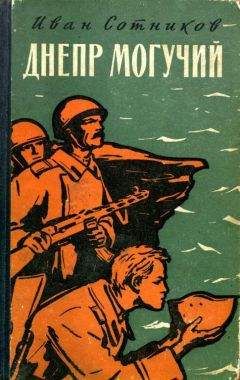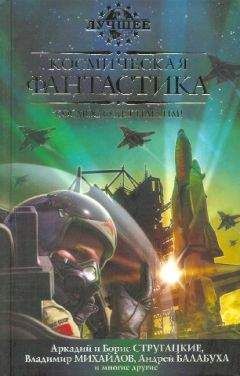Вот и Джурженцы. Их не узнать. Горьким запахом дыма и гари веет отовсюду. Местами еще курятся пепелища подожженных немцами хат, дымят догорающие «пантеры» и «фердинанды».
На пути в Шандеровку пришлось задержаться у неширокого ручья. Саперы спешно наводили мостик, развороченный танками, и выискивали мины. Используя щупы и миноискатели, они шаг за шагом проверяли дорогу и ее обочины. На снегу лежала машина с развороченным кузовом. Как выяснилось, она подорвалась у самого мостика. Саперы обнаружили несколько противотанковых мин и, обезвредив их, сложили в сторонке.
Навстречу подошла грузовая машина. За рулем сидел офицер, а из кузова выглядывал пленный немецкий солдат.
— Где вы его поймали? — поинтересовался Румянцев.
— Сам пришел, — открыв дверцу, усмехнулся казачий офицер. — Это денщик Штеммермана.
— Командующего окруженными? — изумился Яков.
— Фью-ю!.. — даже присвистнул Глеб.
Из кабины грузовика выпрыгнул еще один офицер, и Румянцев сразу узнал подполковника Савельева из штаба армии, того самого, что был парламентером в Стеблеве, когда вручался ультиматум окруженным.
— Возили опознать труп генерала, — поздоровавшись, сказал Савельев. — На окраине Шандеровки обнаружили.
— Ну и что? — здороваясь с ним, заинтересовался Румянцев.
— Опознал. Он самый. Да при нем и документы были. Это для верности.
— И Штеммермана везете?
— Вон в кузове, — кивнул головой офицер, указывая на машину. — Хотите взглянуть?
Румянцев с Соколовым легко перемахнули за борт и хотели уже взглянуть на труп, как со стороны Шандеровки подкатил легкий вездеход. Заглушив мотор, шофер остановился около грузовика, и из машины вышел статный военный в летном шлеме и ладной куртке с серым каракулевым воротником. Погонов на куртке не было. Румянцев пригляделся. Высокий, открытый лоб. Твердый взгляд. Властное, волевое лицо.
Савельев сразу узнал командующего фронтом. Но не успел он подбежать к генералу, как Конев сам обратился к казачьему офицеру:
— В чем затор?
Солдаты и офицеры вытянулись в струнку.
— Мины, товарищ генерал…
Торопливо подбежал молодой командир саперов и стал докладывать. Осмотр заканчивается, и скоро можно ехать.
— Хорошо, обождем, — тихо сказал Конев и, обернувшись к офицерам у грузовика, спросил: — А вы куда едете?
— Сопровождаем труп генерала Штеммермана, — за всех ответил Савельев.
Генерал приблизился к машине. Глеб поспешно откинул борт, а Яков до пояса приоткрыл труп Штеммермана.
Конев с минуту молча глядел на него. Вот он, командующий окруженной группировкой, человек, поверивший в обещанную Гитлером помощь и не внявший голосу разума, когда ему предложили капитуляцию. И чего он только не делал, чтобы спасти обреченную группировку! Грозил и уговаривал, взывал к солдатской чести и обманывал, брал с солдат «подписку о стойкости» и спаивал их перед атаками, молил о выдержке, о доверии, о любви и преданности фюреру, обещал чины и награды и безжалостно губил их в бессмысленных контратаках. Нет, ему недоставало одного — мужества пойти против течения. И вот расплата! Впрочем, есть у него и свои достоинства. Этот хоть пал на поле боя, разделив участь своих солдат, а не бежал, как другие, позорно бросив свои войска.
В кузове лежал пожилой человек с седоватым бобриком волос, с сухим вытянутым лицом, слегка приоткрытыми, словно подсматривающими, мутными глазами, с тонкими старческими губами, с цепкими пальцами костлявых холеных рук.
Яков с волнением глядел на происходящее. Живой Конев и мертвый Штеммерман. Два командующих, два мира еще раз сошлись на страшном поле побоища, и что-то символическое было в их встрече: жизнь и смерть, живое и мертвое!
А Конев все размышлял и размышлял о трагедии человека, избравшего целью жизни служить неправой войне, огню и смерти и бесславно сложившего голову, ничему не научившись и не научив других. Но история зла и беспощадна. Она научит! Пусть его зароют в нашей земле. Пусть его кости гниют здесь, как и кости миллионов немцев-завоевателей. Жестокий кровавый урок. Напрасные жертвы тоже отрезвляют, заставляя искать другой путь, если хочешь жить достойно.
— И сам погиб, и других погубил, — тихо сказал Глеб.
— Верно, солдат, — подтвердил Конев, — бесславный конец! — И, уже обернувшись к офицерам у машины, командующий сказал твердо и строго: — Передайте, что я приказал похоронить его, как подобает хоронить генерала. Пусть вражеского, но павшего на поле брани.
Конев возвратился к своему вездеходу и сел в кабину. Саперы закончили мостик, и машины тронулись.
— Видал? — опомнился наконец Глеб. — Как генерала! С почетом, значит.
— А что, — нахмурился Яков, — ты не согласен, что ли? Мы, дорогой товарищ, не варвары. Пусть весь мир видит.
— Мир, это, конечно, — уступил и не уступил Соколов.
— Во всяком случае, так надо, — заключил Румянцев. — Мы и они — это два мира, и если их мир призван устрашать, наш будет восхищать!
— Это все так, товарищ лейтенант, только салютовать я не стал бы их генералам. Не стал бы. Душе претит.
— А я и не думаю, чтоб нас с тобой кто-то принудил бы салютовать их генералам. Наше дело — бить их! Верно?
— Вот с этим я согласен…
На пути в Шандеровку картина битвы открывалась снова и снова во всем своем страшном величии. Здесь на каждом шагу следы повергнутого врага. Еще издали Румянцев увидел многочисленные фигуры людей, выстроившихся вдоль дороги. Что за люди и почему так неподвижны их застывшие фигуры? Но, чем ближе оставалось до них, тем недоуменнее становилось лицо командира. Что такое? А когда рота совсем приблизилась, Яков не поверил своим глазам. Вдоль дороги стояли трупы немецких солдат. Их лица перекошены и сведены судорогой. Руки скрючены. Зеленоватые шинели закапаны кровью. Заледеневшие мертвецы испуганно и зло смотрели на живых чуть приоткрытыми глазами. Но в их фигурах, в выражениях мертвых лиц было что-то жуткое и отрешенное, словно они уже смирились со страшной судьбой, с тяжким, но неизбежно справедливым возмездием, которое настигло их на этом поле смерти.
— Кто же их выставил тут и зачем? — нахмурился Румянцев.
— Вон кто, смотрите, — указал Глеб на кучу ребятишек, видневшихся вдали. Они тащили с поля замерзшие трупы и ставили их у обочины дороги.
— По-моему, никчемное кощунство, — сказал Румянцев. — Мертвым мстить нечего.
Когда поравнялись с мальчишками, Яков поманил их к себе. Они гурьбой высыпали на дорогу и радостно обступили солдат и офицеров.
— Зачем это? — кивнул Румянцев на мертвяков у дороги. — Кто вам велел?
— А никто, дяденька, мы сами, — опередил других шустрый, лет двенадцати мальчонка. — Пусть стоят, пусть поглядят, чего наделали…
— А то их засыплет снегом, и не найдешь, — сказал другой.
— Их же закапывать надо, попробуй тогда разыщи.
— Ничего, постоят, — весело ухмыльнулся черноглазый паренек, засунув в рукава, видно, закоченевшие руки.
— А глумиться над мертвыми все же не надо, ребятки, — тихо сказал Румянцев.
— Да мы не глумимся, — изумленно взглянул на офицера черноглазый. — Мы просто ставим, и все. Мы ничего с ними не делаем.
— А вы их складывайте в ряд.
Солдаты придут и зароют.
— А что, ставить нельзя?
— Не надо.
— А ребята по дороге на Нова-Буду еще больше наставили, с батальон…
— Никчемная забава.
— А чего их жалеть! — выскочил черноглазый крепыш лет четырнадцати. — Нас они жалели? Поглядите, скольких сожгли в церкви. Все слышали, как кричали наши, когда горели. Вся деревня. А скольких расстреляли? Я сам был в партизанах. Знаете, как лютовали? Поймают — и сразу расстрел. А потом привяжут убитых к столбам и деревьям, а ты смотри и слезами обливайся. Чего жалеть таких мучителей!
Мальчик зло сплюнул на дорогу.
— А нам в подвал гранату бросили, — выскочил еще один, самый маленький из всех, — сразу десятерых уложили. А пожгли сколько!..
Стараясь перекричать друг друга, ребята наперебой перечисляли жертвы последних дней.
— Потому и разбили их, — хмурясь, сказал Румянцев. — А скоро и совсем прогоним с Украины. Очень скоро. И на их земле мы отомстим за все преступления. Вместе с вашими отцами и братьями отомстим. Сами увидите и услышите. А ставить мертвяков, ребятки, все же не надо.
Некоторые из ребят весело усмехнулись:
— Ладно, не будем больше.
— А я буду, — выскочил черноглазый. — Зачем они мамку убили?..
У Румянцева перехватило дыхание. Он притянул к себе нахмурившегося мальчишку и молча поерошил его волосы, отчего его шапка низко-низко сдвинулась на лоб, закрыв глаза, на которых блестели слезы.
Яков тихо подал команду, и рота снова тронулась. Видно, не вовремя он взял под защиту этих убитых. Теперь им все равно: стоять или лежать. И если все же это кощунство, малышей сейчас не переубедить. Их глаза видели столько мук и горя, столько крови, нечеловеческих зверств, чинимых немцами, что любое снисхождение к врагу, даже к мертвому, вызывает у них протест.