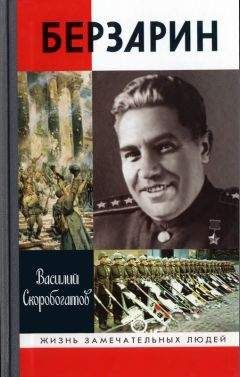Шел Емельян, а в ушах звенели слова женщины: «Все сгорели... И Шурка сгорела... в кузне...» И словно дальний отзвук, следом несся малиновый перестук молота и наковальни, которые будоражили Емельянову память... Откуда ни возьмись, явилась кузница его детства и юности, та самая, которая от утренней зари дотемна все звенела и звенела на весь Исток. К ней, кузне, вели все тропинки. Кто вел сюда коня подковать, кто колесо катил, кто вез плуг, а кто просто так шел — покалякать. Уж тут мужики волю языкам давали, все новости сюда несли и мигом выкладывали. Молчал лишь дядя Фома — кузнец, мужик невысокий, с густыми черными усами и красным от огня и раскаленного железа лицом.
Емельян мог долго-долго смотреть на то, как ловко мастерил дядя Фома, как никудышнюю железяку он превращал в подкову или в шворень. Его цепкие и сильные руки все умели: и огонь раздуть, и молотом вдарить, и железо согнуть.
Да, кузня — это диво-дивное. Кто может так дунуть, чтобы черные холодные угли огнем запылали? Только горн. Он один не даст угаснуть пламени. А дядя Фома, ухватив длинными щипцами шершавую железную болванку, заталкивал ее в раскаленные угли — и металл так накалялся, что становился пламенным. Потом те же щипцы несли огненное железо на наковальню, и начиналось истинное чудо, творимое руками и молотом кузнеца. Кузница наполнялась пением железа и горящими искрами...
Две кузницы вплелись в судьбу Емельяна: одна — из детства пришедшая и подарившая приятные минуты воспоминаний, и другая — своим пожаром-пламенем опалившая его сердце. Вконец расстроился Емельян, когда подошел к околице Поречья: от дома, в котором он расправился с немцем-очкариком, осталась лишь печь с сиротливо торчащим дымоходом и черные головешки, раскиданные по двору.
— А где же Олесина мать и бабушка? — неизвестно кого спросил Емельян.
Оглянулся вокруг — пустынно, никаких признаков жизни. И как-то сразу подумал: а может, и их порешили в той пылающей кузне?
Постоял недвижимо и вспомнил наказ деда Рыгора найти хату Архипа. Она должна быть пятой от избы бабушки Анны.
Пошел, считая хаты, вдоль улицы. Вот она, пятая, с закрытыми ставнями, однако ж сквозь щели пробивался тусклый свет. Неужто в такой поздний час бодрствует старик? Через калитку вошел во двор и, подойдя к окну, постучал в ставню. Никакого отзвука. Еще постучал. И вдруг — сонный голос:
— Ну, что надо?
— Откройте, дедушка Архип.
— Архип давно осип, — услышал Емельян странное бормотание у самой двери.
Насторожился Емельян. Снял с плеча мешок с оружием и опустил его к ноге.
Щелкнул засов. Дверь открылась настежь. Емельян увидел молодого человека без рубахи, в одних кальсонах.
— Извини, браток, я, видно, ошибся... Мне к деду Архипу.
— Не ошибся ты... Был Архип да весь вышел... Богу душу отдал.
— Как?
— А так, ногами вперед!
— Помер?
— Наконец дотумкал, — развязно процедил незнакомец. — Но ты заходи, коль пришел. Покалякаем...
Емельян принял приглашение и вошел в освещенную лампой горницу. Но когда взглянул на хозяина, оторопел — тараканьи усы и черная повязка на глазу... Это же он, Гнидюк, полицай! Ну и ну...
— Ставь бутылку на стол! — повелевающим тоном резко произнес одноглазый. — Надо башку поправить. Трещит, сволочь!
Емельян взглянул на стол, уставленный пустыми бутылками да тарелками, на которых лежали куски мяса, сала, а одноглазый, перехватив этот взгляд, щегольски произнес:
— Гульнули малость. С самим шефом.
— С шефом?
— Что удивился? Ты разве знаешь обер-лейтенанта?
— Его — нет, а тебя знаю, — бросил Емельян, понимая, что такие слова польстят Гнидюку-таракану.
— Меня все знают, — выпятил голую грудь полицай, прищурив мутно-пьяный глаз. — Ну-ну, кто я?
— Федор Гнидюк. Полицейский начальник.
— Точно, начальник!.. А я вот тебя и ведать не ведаю. Ты-то кто?
— Как тебе сказать... Скиталец я, — решил и дальше хитрить Емельян. — К тебе пришел. Специально к тебе. Сказали, что ты у деда Архипа на постое, вот я и стучался до него. А нужен мне ты.
— Ишь как! Я нужен... Всем Гнидюк нужен... Даже гер обер-лейтенанту.
— А он-то кто? Главнее тебя в Поречье?
— Во хватил... Обер-лейтенант всей зондеркомандой повелевает. И я под его началом. Но мы с ним душа в душу живем. — Одноглазый показал на стол. — Уразумел?
— Теперь понял, Федор, а как по батюшке — не знаю.
— По батюшке не надо и «Федора» тоже забудь. Фредом зови, как обер-лейтенант меня величает. Слышишь, как звучит — Фред!
— Слушаюсь, гер Фред!
— Вот так! — зевая, произнес, будто прогудел, одноглазый. — Так зачем ты ко мне пришел?
— Пристроиться хочу. Хватит шататься по селам.
— А почему шатаешься?
— Из окруженцев я.
— К кому хочешь пристроиться?
— К тебе, Фред!
— Ставь бутылку — и поговорим.
— Нет бутылки.
— А в мешке что? Показывай!
Емельян был готов к такому вопросу, он понимал, что полицая должна заинтересовать ноша ночного гостя-незнакомца. На этот случай его план был прост: пускать в ход автомат. И все-таки Емельян решил потянуть время: надо еще кое-что разузнать у этого подонка.
— Будет бутылка, — сказал Емельян, — утром найду. Вот увидишь.
— Мне сейчас потребно... Показывай мешок.
— Изволь, — Емельян нагнулся к лежащему на полу мешку, развязал веревку и, сунув туда руку, вытащил напоказ стеганый рукав. — Видишь, телогрейка... Еще сапоги про запас.
Одноглазый, раззевавшись, махнул рукой:
— Жаль, что нет бутылки... Давай спать!
— И правильно! — одобрил Емельян. — Утро вечера мудренее.
— Точно! Утречком пойдем в школу, недалеча — рядом с церквой. Тебе там устроят экзамен.
— А в школу зачем?
— Резиденция обер-лейтенанта и его зондеркоманды. Увидишь... Приготовься к испытанию, — хихикнул одноглазый.
— Готов на все! — бодро произнес Емельян и, взглянув на подбивавшего подушку одноглазого, заметил под ней рукоятку пистолета.
— Лампу будем гасить? — спросил Емельян.
— Оставь. Я привык при огне спать, — сказал одноглазый и натянул на себя одеяло. — И ты привыкай.
Емельян примостился на широкой лавке, стоявшей у стола, напротив кровати одноглазого.
— Ты храпишь?
— Бывает, — вроде сонно ответил Емельян. — А ты?
— Во всю силу... Если станет невмоготу, отправляйся в сени...
— Ничего, стерплю... С дороги устал, — зевнул для вида Емельян.
Одноглазый повернулся лицом к стене, громко икнул, выругался и, вместо того чтобы замолкнуть, вдруг заговорил:
— Ох и гульнули! Обер-лейтенант тюфяком стал. Слабак... А повод-то какой, повод! Все партизанско-большевистское отродье подчистую скосили... В кузне. Шестьдесят шесть большевичков под корень... И хаты их огнем слизали... А, ты ничего не знаешь...
Последнюю фразу одноглазый пробормотал сонно. И захрапел. А Емельян и не собирался спать. Не до сна ему было. В висках стучала одна лишь мысль: расплатиться надо!
Наступил его святой час отмщения за все: за комсомолку Соню, за ров на Мыслотинской горе, за костер из живых людей... Вставай, красноармеец Усольцев, пора браться за дело святое и праведное!
Емельян поднялся и пошел прямо на одноглазого, сунул руку под подушку и ухватился за пистолет. Вся горница, пропахшая самогонным перегаром, гудела от храпа Федора-полицая. Емельян спокойно приставил ствол пистолета почти вплотную к затылку одноглазого и чуть было не нажал на спусковой крючок, но остановился: будить надо холуя, пусть своими глазами увидит свой конец, подлюга.
— Встать! — властно прогремел Емельян. Одноглазый вздрогнул и нервно, еще лежа, начал шарить под подушкой — нет пистолета! Бросил взгляд на Емельяна и, увидев дуло пистолета, обмяк. Поднялся, прямо на кровати стал на колени и, прижавшись к стенке, начал молить о пощаде:
— Браток, не тронь меня... Я заплачу... Устрою... Озолочу... За что?
— За кузню. За предательство! Сгинь, гнида!
Пуля продырявила лоб полицаю, и он плашмя свалился на постель. На подушку хлынула кровь. Емельян быстро собрался и покинул избу.
Поречье по-прежнему пребывало во сне, а может, и вовсе не спало село, просто, пережив такой адов день, притаилось и застыло, как застывает капля воды, выплеснутая на мороз. Емельян шел по ночной улице и все думал о них, поречанах, попавших, как и жители других селений, куда пришел фашист, в такую беду, из которой есть только один выход — борьба, мщение. Ему вдруг захотелось несбыточного — войти в эти замершие дома и, чтобы все-все услышали, крикнуть: «Не бойтесь, люди, нет больше Гнидюка-карателя!». Но из-за стен, как показалось Емельяну, вырвался возглас-вопрос: а зондеркоманда? Верно, живы еще эти бандиты. Пристроились в школе и почивают себе, сил набирают для ночного разбоя. Ну, погодите!
Емельян взял курс на церковь, купол которой блекло вырисовывался на фоне светлеющего неба: оттуда, с церковного плацдарма, выражаясь военным языком, сможет оценить обстановку и принять точное решение. Нет, решение он уже принял — бой и только бой! Но как осуществить замысел, что конкретно предпринять — это только ему надлежало определить.