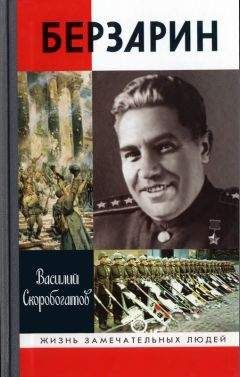Галстян отбивался. Немцы пытались скрутить ему руки, но он не давался. Сумел одному ногой садануть под дых. Свалился фриц.
Подскочил Усольцев и лопатой рубанул скалившегося немца по голове. Ухватил второго, телом придавившего Ашота, за сапог, но фриц дернул ногой и с размаху ударил ею Емельяна в лицо. В глазах потемнело...
И взрыв... Черными комьями вздыбилась земля... У самого танка...
Емельян лежал навзничь...
Санитарный поезд катил на восток. А солдаты Сталинграда — однополчане Усольцева — устремились на запад.
Емельян, лежа на вагонной полке, даже и представить себе не мог, что происходило в этот час на правом волжском берегу. Такого огня, такого грохота и гула еще не видел и не слышал сражающийся город. Вся ствольная артиллерия, реактивные «катюши», бомбовая авиация, обрушившись на врага, дали сигнал к контрнаступлению. И войска фронта пошли вперед.
Усольцев же удалялся от войны. Поезд, миновав Сызрань, шел на Куйбышев.
Емельян силился вспомнить, — уж в который раз! — что же стряслось с ним, что произошло у того колодца. Он закрывал глаза и открывал их. Недвижимо смотрел в потолок, будто пытался там увидеть себя, Ашота и ту схватку.
Где он, Ашот, где? Быть может, как и он, в этом же вагоне, а возможно, невредим остался... Емельян ничего этого не знал. Не знал и того, как очутился в белоснежном госпитальном царстве. Кто-то ж доставил его в медицинский рай! Но кто? Может, Захар?
Угадал, да, Нечаев первым бросился к месту взрыва и нашел на противоположной стороне танка Емельяна, засыпанного землей. Каким-то чудом и Катюша подползла. Она увидела Галстяна. Он лежал на броне — взрывная волна, видно, кинула его туда — с пробитой головой. А у колодца валялись ноги, обутые в немецкие сапоги...
Усольцев открыл глаза ровно через сутки. Невнятно шевельнул губами, и снова опустились веки. На БМП прибыл майор Марголин. Он с ходу спросил:
— Живой?
— Живой, — ответил фельдшер и показал окровавленный осколок. — Из груди вытащили. Наполовину лишь вошел.
— Контужен сильно, — добавила санинструктор Чижова. — Говорить не может...
— На левый берег нужно переправлять, в госпиталь, — распорядился майор.
— Пусть придет в себя, — сказал фельдшер. — Все будет сделано.
Марголин наклонился над Емельяном и тихо-тихо стал ему что-то рассказывать.
— Не слышит, — объяснила Катюша.
— А вдруг услышит меня... Емельян Степанович, Олеся прислала письмо... Про тебя спрашивает... Не забыл Олесю?
Емельян шевельнул губами, открыл глаза и тихо произнес:
— О-ле-ся.
— Да-да, Олеся письмо прислала. Привет тебе шлет.
Емельян ничего больше не сказал. Снова закрылись веки.
Катюша влажной ваткой смочила Емельяну губы. Он их лизнул и еле произнес:
— Ашота с-с-па-сайте.
Марголин хотел что-то сказать, но, близко увидев бледное недвижимое лицо Емельяна, ни слова не произнес.
— Пусть в покое полежит, — сказал фельдшер. Майор спросил про Ашота, которого велел спасать Усольцев.
Ответил Нечаев, не уходивший из блиндажа БМП.
Доложил замполиту про все, что случилось, как разорвалась мина и угодила прямо в то место, где схватились взводный и помкомвзвода с двумя немцами. Жив остался только Усольцев, которого Катюша и он, Нечаев, с большим трудом из-под носа у фрицев вытащили.
— А Галстяна похоронили на взводном кладбище, — сказал Нечаев и оттого, что ком подступил к горлу, умолк.
Подал голос Емельян:
— Ашот... Ползи... За горло... У, фриц...
Катюша прикоснулась губами ко лбу.
— Горит.
— Сейчас вызову полкового врача, — сказал майор и вышел из блиндажа.
Поздно вечером, когда Усольцев успокоился и жар спал, врач принял решение переправить раненого через Волгу. К берегу вышел Нечаев и, на счастье, наткнулся на лодочника, который собирался отплывать.
— Стой, браток. На левый берег плывешь?
— А что? — спросил боец, по виду пожилой.
— Раненого захвати.
— Можно, — сипло ответил лодочник. — Где он?
— Сейчас. Недалече.
— Поспешай.
Усольцева принесли на носилках. У лодки стояли двое: лодочник, с которым договорился Нечаев, и еще капитан с полевой сумкой.
— Вы тоже на левый берег? — спросил врач капитана.
— Нет, здесь остаюсь.
Нечаев повернулся лицом к капитану: очень знакомый голос.
— Чья лодка? — поинтересовался врач.
— Корреспондентская, — ответил капитан. — На ней переправляем на левый берег написанное нами, корреспондентами, здесь за сутки. Редакция ведь там.
Нечаев, укладывая Емельяна в лодке, приподнял голову.
— Никак политрук Степурин?
— Точно, я... Постой, постой, — капитан вплотную приблизился к Захару. — Узнаю. Нечаев, да?
— И фамилию мою помните. Здорово, елки-моталки. Не забыли нашу берлогу под немцами.
— Такое, брат, не забывается. Жизнью ведь вам обязан.
— Выздоровели, значит? Кажись, плечо и ногу зацепило...
— Зажило... Усольцев, ну, который старшим на станции был, воюет?
— Вон он. Отвоевался.
Капитан шагнул в лодку и наклонился над лежащим Усольцевым.
— Здравствуй, Емельян. Что же это ты, а?
Усольцев никак не догадывался, кто это перед ним. Капитан вынул фонарик и осветил им свое лицо.
— Корреспондента Степурина помнишь? — Нечаев произнес в самое ухо Усольцева.
Емельян чуть качнул головой и закрыл глаза.
— Бедолага, — произнес Степурин и вышел из лодки.
Лодка уплыла к левому берегу...
Этого Усольцев не помнит. Кусок жизни вырван из его памяти. У танка в бездну провалился и только в полевом госпитале за Волгой выбрался из нее. Снова услышал голоса, правда, сквозь шум, стоявший в ушах, но услышал же. А главное — увидел. И поразился — никого из друзей... Куда подевались?.. И стрельбы не слышно. Как это так?.. Увидел девушку с белым колпаком на голове и, кажется, догадался, что попал в госпиталь. Попробовал приподняться, но так кольнуло в груди и в спине, что холодным потом покрылся. Страшное подумал: калека!.. Слеза покатилась по щеке. Потянул руку, чтоб стереть влагу с лица, снова боль ударила.
— Старайтесь не делать резких движений, — услышал голос сестрицы и, не поворачиваясь к ней, спросил:
— Долго мне лежать?
Сестра присела и, погладив его по руке, мягко сказала:
— Все будет хорошо.
Он, увидев ее юное лицо и ровный рядок белых зубов, впервые за все госпитальное время улыбнулся. Подумал: какая красивая и добрая... Она обязательно поможет скорее подняться...
И сейчас, под стук вагонных колес, Емельян вспомнил и ее, белозубую сестрицу, которая часто сидела у его кровати — поила, кормила и даже иной раз песенки пела...
Есть же на свете золотые люди... И Емельян стал вдруг вспоминать всех, с кем дружбу водил. Старался никого не пропустить. Начал с Истока, потом добрался до партизанщины и в Сталинград пришел... Собрать бы их всех вместе. Полк получился бы... Ну не полк, так батальон... И вот он снова один — ни друзей, ни знакомых. Как сузился мир! Был необъятный: от Волги до белорусской речки Птичь... А теперь в вагонную коробку втиснута его жизнь...