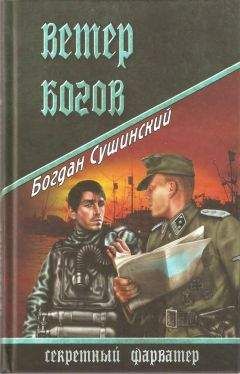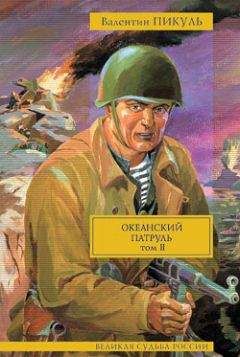«Тогда встает вопрос: “Кто ты?” — взглянул на нее из-под нахмуренных бровей штурмбаннфюрер. — Неужели приставили? Даже ко мне? Но кто? Кто посмел? Бред. Не может быть».
С этой успокоительной мыслью: «Бред. Не может быть» — Скорцени и прекратил разматывать клубок своих подозрений.
Тем временем вновь ожил телефон. Подняв трубку, Скорцени, к своему изумлению, услышал теперь уже хорошо знакомый французский прононс Жанны д’Ардель. Хотя она и не представилась.
— Поздравляю, господин Скорцени. На сей раз небесные ангелы обошли вас? А, господин штурмбаннфюрер?
— Что вы хотите этим сказать?
— Всего лишь констатирую тот неоспоримый факт, что во время бомбежки небесные ангелы пощадили вас.
— Вас это огорчает?
— А вернее, — не отреагировала д’Ардель, — они были предельно точны: бомбы легли на западное крыло отеля. В то время как вы пребываете в восточном, самом фешенебельном. Хотите возразить?
На какие-то секунды штурмбаннфюрер потерял дар речи.
— То есть я должен считать, что этот налет был специально организован для того, чтобы уничтожить меня?
— Вы невнимательно выслушали, Скорцени. Я ведь ясно сказала, что они нацеливались на западное крыло отеля, а ваш, восточный, корпус был прикрыт центральным, который тоже уцелел.
— Да меня не это интересует, дьявол меня расстреляй! Что вы хотите сказать: что эти три звена бомбардировщиков были посланы специально, чтобы разнести отель, в котором я остановился?
— У вас появляется маниакальная мнительность, господин штурмбаннфюрер. Никто не стал бы сооружать такую сложную комбинацию, задействуя чуть ли не всю американскую авиацию Италии. Они стремились ликвидировать базу катеров и береговые укрепления. Но два пилота получили особое задание: нанести удар по отелю «Корсика», — вежливо, спокойно, словно учительница на уроке чистописания, объясняла д’Ардель. — Очевидно, эти парни отличились недавно во время учебного бомбометания на полигоне, поэтому на них и остановили свой выбор.
Только сейчас Скорцени вспомнил, что за спиной у него все еще стоит Фройнштаг. Он оглянулся. Лицо девушки оставалось невозмутимым, однако глаза откровенно смеялись. Скорцени это не обидело. Наоборот, он подумал о Лилии с уважением. Не такая уж она взбалмошная фантазерка, как могло показаться, когда пытался разуверить ее в интересе к нему союзнической контрразведки.
— Тогда кто вы?
— Вопрос не по существу.
— Почему же меня не убивают? — этот вопрос скорее был адресован Фройнштаг, нежели мадемуазель д’Ардель. Но произнесен слишком близко от трубки.
— У вас появился довольно могущественный покровитель. Который к тому же прислушивается к советам человека, очень расположенного к вам. Они-то и вступились за вас. Вовремя и решительно.
— И вы, лично вы, тоже представляете интересы моих покровителей?
— Естественно, — очень просто и, как показалось штурмбанн-фюреру, охотно согласилась собеседница.
— В таком случае, что вам мешает назвать имя этого высокого покровителя? Покровительство не должно оставаться анонимным. Иначе оно теряет смысл.
Д’Ардель снисходительно рассмеялась.
— Человек, задающий по телефону такую массу вопросов, явно напрашивается в гости.
— К вам?!
— Жду вас по адресу, который через несколько минут занесет горничная, — простила ему эту бестактность д’Ардель. — До моей виллы пятнадцать минут ходьбы. Но за вами прибудет бежевый «пежо», за рулем которого будет сидеть подруга штурмбаннфюре-ра Умбарта — Марта фон Эслингер. Даю слово, что мы задержим вас не более чем на двадцать минут.
— Оказывается, вы всесильная женщина: то вы присылаете за мной бежевый «пежо» с австрийской аристократкой, то пару бомбардировщиков… Я начинаю относиться к вам с уважением.
— Попробовали бы относиться к нам иначе, — опять употребила она это подчеркнутое «нам». — Уже пора понять; что времена всесильности абвера и СД кончились. Перелом на диверсионноразведывательном фронте столь же разителен, как и на всех прочих фронтах. Извините.
Скорцени почувствовал, что ока собирается прервать разговор в самом неподходящем месте, и поспешил задать тот вопрос, который действительно больше всего интриговал его сейчас.
— Мое согласие или несогласие на визит к вам будет зависеть от вашего ответа. Госпожа д'Ардель, мои покровители связаны с Римом?
Аристократка замялась. Скорцени почувствовал, что д'Ардель в комнате не одна и что она вопросительно смотрит на того, под чью диктовку преподносит ему урок деликатного шантажа. Из тех, которые он и сам время от времени преподносит слушателям своих Фридентальских курсов.
— Можете считать, что да, — как-то слишком уж неуверенно подтвердила Жанна. — Это имеет какое-то значение?
«Неужели папа римский? — задав себе этот риторический вопрос, Скорцени рассмеялся. Да уж, станет вступаться за него властелин Святого престола, которого он только недавно этого самого престола чуть было не лишил. — Но стоп! Сестра Паскуалина. Па-скуалина Ленерт — вот кто может оказаться тем благоразумным советником, который постоянно подсказывает мстительному папе, а главное, его кардиналам от ватиканской службы безопасности: “Не горячитесь. Этот громила может еще понадобиться нам. Имейте христианское терпение, дайте возможность приобщить его ко всесилию нищенского гроша святого Петра”»[50].
Их совещание еще продолжалось, когда на пороге появился полковник Сахаров и, спросив разрешения, доложил:
— Господин командующий, только что получена телефонограмма из Берлина от начальника вашей канцелярии полковника Кримиади. Он уверяет, что дано принципиальное согласие Гиммлера на встречу с вами.
Генералы удивленно переглянулись и поневоле взглянули на потолок, представляя себе, что видят сквозь его казарменную серость божественную голубизну небес.
— Это известие получено от самого Гиммлера?
— Из его канцелярии, господин командующий. Но соизвольте заметить, — никак не мог отвыкнуть полковник от своего дворянско-старорежимного лексикона, — что исходит оно, естественно, от самого рейхсфюрера, поскольку названа дата. Поэтому не следует думать, что это очередная пропагандистская отговорка.
— Вы забыли назвать саму дату, полковник.
— Двадцатое июля[51].
— Наконец-то, — басисто проворковал Трухин. — Пусть даже с опозданием на два года.
— Но это еще не Гитлер, — обронил Малышкин. — И неизвестно, делается ли это с его позволения. У них там вечный кавардак. СС соперничает с вермахтом, «Остминистериум» претендует на нас, в пику генеральному штабу…
— И все же позволю себе заметить, господа, — не разделял их пессимизма закаленный в белогвардейских эмигрантских схватках полковник Сахаров, который стал теперь кем-то вроде личного порученца при командующем, — что в настоящее время Гиммлер сосредоточил в своих руках такую власть, о которой еще недавно даже не мечтал. И если бы нас взяли под попечительство СС, превратив в свои части…
— Только не в части СС. У нас и своей собственной славы хватит, полковник, — прервал его разглагольствования Власов. — В Россию мы должны войти Русской освободительной армией, а не трижды проклятыми там эсэсовцами.
— Командующий прав, полковник, — кротко поддержал его Трухин. — Не потому, что командующий, а потому, что прав.
— Позвольте передать полковнику Кримиади, что вы даете свое согласие на эту встречу, — щелкнул каблуками полнолицый стареющий Сахаров, выправке и гвардейской фигуре которого завидовали многие крестьянские сыны из офицерского корпуса армии Власова.
— Дипломатический этикет требует этого, — согласился командующий.
— В неуважении к которому нас частенько упрекает старая русская эмиграция, — заметил Малышкин. — Во время моей поездки в Париж летом прошлого года мне это давали понять на каждом шагу. Русская белогвардейская эмиграция так и не может понять, в каких же отношениях мы пребываем сейчас с руководством рейха. И кто мы: союзники немцев или же пленники их?[52]
— Очень скоро они сообразят, что каким-то непостижимым образом мы соединяем в себе скорбные лики пленников с воинственными ликами союзников, — поднялся Власов, давая понять, что совещание закончено. Все знали, что командующий терпеть не мог диспутов и полемик, к которым, кстати, давно пристрастились здесь, в эмиграции, белогвардейские генералы.
С тех пор как в Дабендорфе, рядом со школой пропагандистских кадров, был развернут тренировочный лагерь, вновь образовавшийся таким образом неофициальный Русский центр, как его называли местные жители, очень скоро превратился по существу в центр всего Русского освободительного движения. Каких-нибудь тридцать километров, которые отделяли Дабендорф от Берлина, позволяли русским генералам не чувствовать себя здесь в провинции, а сосредоточение различных эмигрантских учреждений давало возможность превратить Дабендорфскую школу еще и в своеобразный штаб РОА.