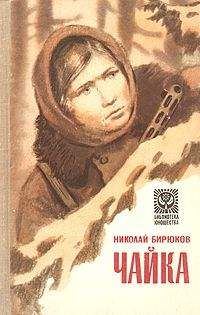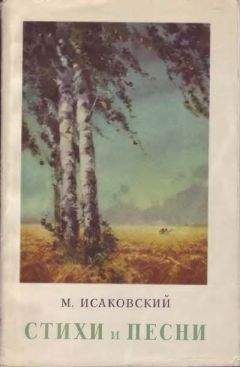«Психоз русских глаз» — это выражение он слышал, еще будучи в Польше. Рассказывали, будто в России работников гестапо во сне и наяву преследуют глаза тех, кого они замучили. Поэтому в практике гестаповцев так часты случаи выкалывания глаз. Он тогда смеялся над этими россказнями, а теперь сам все чаще отмечает, что не может спокойно видеть глаза русских, случайно встречающихся ему на улице. Чем это объяснить?
«Ничего, расправа от вас не уйдет. Постройте мост, а потом я займусь вашими глазами», — подумал он о покатнинцах, представив себе их там, на берегу, под надежной охраной солдат.
«А если скрутить, так не только покатнинцев, а всех, — возникла мысль. — Колючая проволока, рвы… И тогда… конец побегам».
В дверь постучали. Ридлер закусил губу, и проступившее было радостное оживление сошло с его лица: ведь он строго наказал не тревожить его по мелочам.
В кабинет вошел Зюсмильх. Голова у него была забинтована, на лице и руках багровели следы ожогов.
Нет, это уж был не тот лейтенант, у которого самодовольством лоснилась каждая оспинка. Пережитое им в Покатной не прошло бесследно. Настроение у него менялось на дню по нескольку раз: то он зверел, то вдруг притихал, ежился и ростом вроде становился меньше, а из маленьких глаз в такие минуты, как и сейчас, смотрели тоска и страх.
Ридлер ждал.
— Пришел Степан Стребулаев.
— Пусть убирается к дьяволу!
Зюсмильх вытянулся.
— Слушаюсь! Я осмелюсь потревожить вас еще по другому делу: к лысому вернулось сознание.
— К лысому? — Ридлер звучно захрустел пальцами. — Давайте его сюда!
Козырнув, Зюсмильх вышел.
Ридлер налил полстакана водки и выпил залпом. В голове немножко зашумело.
«Будет проклятый старик упрямиться — прикажу на куски разорвать», — решил он и, плюхнувшись в кресло, стал ждать.
Михеича ввели под руки: самостоятельно он уж не мог передвигаться. По знаку Ридлера солдаты усадили его на диван и вышли.
— Будешь говорить?
Старик молчал, угрюмо рассматривая свою окровавленную грудь.
* * *
Спустя час из города гуськом выехал конный отряд в двадцать пять человек. Впереди ехал Шендель — тот самый офицер, которого в Залесском чуть не загрыз Полкан Карпа Савельевича. На втором коне сидели Михеич и рослый солдат, державший старика обеими руками.
От шоссе отряд прямиком помчался по белому полю к лесу.
Ночью в ближайших от моста селах немцы подняли жителей прямо с постелей и погнали на строительство. Метель слепила людям глаза и швыряла их из стороны в сторону.
Всех прибывающих немцы останавливали возле строительной площадки и выстраивали по обе стороны дороги. Солдаты дали-кому лом, кому — лопату и приказали рыть.
Земля под снегом промерзла и поддавалась плохо. На тех, кто осмеливался отдыхать, немцы набрасывались, как воронье, — стаями. Пот лил с людей, словно они работали в жарко натопленной бане. Многие сбросили с себя полушубки и куртки. К утру, когда стали подходить жители дальних деревень, по обе стороны дороги очертились широкими канавами два белых прямоугольника. На буграх мерзлой земли валялось несколько мертвых стариков и женщин, надорвавшихся в непосильном груде.
По приказу Швальбе солдаты разогнали падающих от усталости людей по местам их постоянной работы, а сами принялись оцеплять канавы рядами колючей проволоки. Люди заволновались. Неужели за колючую изгородь всех загонят? А как же с детьми и стариками?
Метель не унималась. Снежные вихри, налетая с поля, с головой накрывали строителей.
В полдень волнение усилилось: немцы стали нумеровать работающих — жирно мазали спины крахмалом и наклеивали по два белых матерчатых квадрата. На одном значилась написанная черным цифра, на другом — начальная буква названия села.
Женю присоединили к великолужанам, приклеив к ее спине знак: «В-94». Перед вечером она осторожно подошла к покатнинцам, которые, как и до побега, работали на распилке.
Пильщик, на спине которого было крупно помечено «П-11», повернул на ее шаги голову — это был Фрол Кузьмич. Его-то и разыскивала Женя. Еще утром старик шепнул ей, что он и остальные покатнинцы намереваются бежать с наступлением вечерних сумерек, и просил помочь отвлечь чем-либо немцев.
— Готовы?
Смахнув с куртки снег и опилки, Фрол Кузьмич выпрямился и указал ей глазами в сторону колючей изгороди.
— Смекаешь?
— Да. Пожалуй, всех загонят.
— Я не про это, — взволнованно сказал старик. — Посмотри вокруг. — Он сам огляделся и спросил шепотом: — Есть теперь такая лазейка, чтобы, стало быть, отряду сюда попасть?
Лицо Жени помрачнело. Поглощенная мыслью, как ей быть — бежать или вместе со всеми остаться в концлагере, она ни разу не подумала о колючей изгороди так, как говорил о ней сейчас Фрол Кузьмич. А ведь правда, нельзя теперь прорваться партизанам. Неоткуда! Из леса? Эта возможность и раньше исключалась: на лес нацелены орудия танков, и партизан положат прежде, чем они успеют добежать до моста. А которые уцелеют от снарядов, найдут себе смерть под гусеницами, под огнем пулеметов. До сегодняшнего дня был один возможный путь — поле: с наступлением темноты ползком, прячась за бугорками, партизаны могли бы незаметно подкрасться к берегу и завладеть танками или уничтожить их. Но теперь этот путь прегражден колючей проволокой и рвами, а итти по дороге — верное самоубийство: с берега танки двинутся, из села в спину конница ударит.
Женя взглянула на мост. Два пролета были совсем готовы, цементировали настил… Превратится в железобетонное тело скелет третьего пролета — и пойдут по мосту поезда на Москву.
— Пока остаемся, — сурово сказал Фрол Кузьмич. — Так и передай Чайке и Лексею Митричу. Если нет другого исхода, до конца останемся, обмозгуем там, — он опять кивнул в сторону колючей изгороди, — и постараемся работнуть так, что Гитлер не обрадуется мостику. В этом будь уверена, девка. Так и передай.
Из низины, в которой просеивали песок, прибежал Минька.
«П-19» — прочла Женя на его спине, а Фрол Кузьмич, увидев сына, рассвирепел:
— Ты что же это, а? Я тебе, подлецу, что приказал?
Минька обиженно отвернулся.
— А кто вам смолу станет приносить? — буркнул он, надвигая на лоб мохнатую шапку.
Фрол Кузьмич молчал. Минька заплакал и прижался к отцу, спрятав лицо в его расстегнутой куртке.
— Не могу, тятя, сбежать от тебя…
Чтобы совладать с собой, до слез тронутый старик отстранил сына и взялся за пилу, хотя сумерки сгустились уже настолько, что не было видно нанесенных на бруски линий.
От блиндажей донесся звон колокола — сигнал к прекращению работы.
Поцеловав Миньку и не отпуская его от себя, Фрол Кузьмич зло оглядел солдат, цепью выстроившихся по линии леса. Грохот бетономешалок оборвался, и из радиорупоров по всему берегу разнесся голос:
— Внимание!
Распрямили усталые спины землекопы, плотники, бетонщики и озирались, стараясь понять: что будет дальше?
— Внимание! — опять загремело радио. — Покатнинцы, за колючую проволоку — марш! Остальные русские — к берегу! Кто ослушается, за того ответят дети.
Женя мрачно смотрела на покатнинцев, которые с клеймами на спинах, под конвоем немцев, зашагали к колючей проволоке. Впереди шли Фрол Кузьмич и Минька — «П-11» и «П-19». В этой же группе шагали тетя Нюша и Клавдия.
— Пошел! — Перед Женей вырос немец с поднятой для удара винтовкой. Она отскочила от него и поплелась к берегу.
Немцы делили строителей по селам и выстраивали их, как солдат на параде, — квадратами. Офицеры разглядывали каждую спину и тех, кто по ошибке попадал не к своим, выгоняли, заставляя искать «свою букву».
Великолужане выстраивались возле самых бетономешалок. Женя встала с краю — на случай, чтобы удобнее было бежать.
Метель то затихала, то опять пускалась в разгул, и белая пыль крутилась по земле, засыпая нумерованных людей. Они стояли молча, такие же неподвижные, как штабели напиленных брусков и клетки теса, там и тут темневшие на снегу. За колючей изгородью покатнинцы рыли землянки.
Время шло, а немцы ничего не предпринимали; и построенные в квадраты люди не знали, что же с ними будет: загонят ли всех за эту колючую изгородь, или распустят по домам? Похоже было на то, что не загонят. Если бы думали загнать, почему не сделали это сразу?
«Наверное, по радио начнут сейчас гавкать: вот, мол, со всеми так будет, как с покатнинцами», — подумала Женя.
Так, возможно, думали и остальные. Волнение постепенно улеглось, сменившись равнодушием к тому, что сейчас должно произойти. Но радио молчало, и ропот одиночек вновь перерос в многоголосый гул: скоро ли? Ведь ночь нависает, а дома — голодные дети, беспомощные старики…