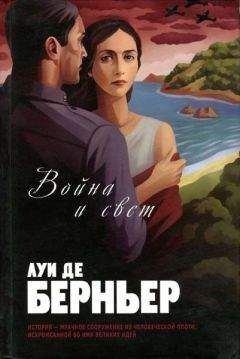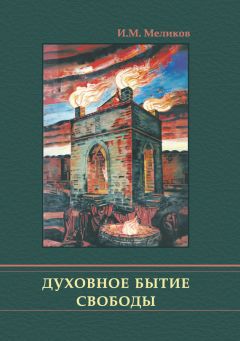В опустевших траншеях и ободранных лесках постоянно чудился голос Фикрета: «Мне похер, я из Пера», мелькали вроде забытые лица товарищей и убитых мною франков. По ночам я вдруг просыпался и с бухающим сердцем хватал винтовку — казалось, нужно бежать в атаку.
Месяцами над нами висела огромная, налитая сладковатым запахом тлена пыльная туча поносного цвета, и вот она стала рассеиваться. Обваливались края траншей, повсюду в странных позах лежали мертвецы, словно забывшие о чувствах и плоти. В окопах франков сотнями находились лопатки и кирки, которых прежде так не хватало, мы за ними охотились в вылазках, — теперь бери сколько угодно, да без надобности. По весне среди камней выпрыгнули олеандр, мирт и чабрец, поля сражений покрылись маками, и склон Ачи-Бабы стал ярко-алым, ведь потревоженная земля извергает маки, как труп — опарыши. Мне представлялось, что каждый мак — это весточка от солдата, поалевшая от пролитой крови, и еще вспоминалось, как много лет назад в наших краях маки вдруг стали розовыми, и люди гадали, что бы это значило.
Громадные корабли ржавели на отмели, огромные франкские армии воевали в других местах, а сюда вернулись козопасы со свирепыми круглоухими собаками и крестьяне, подбиравшие колючую проволоку для изгородей. Приезжие из Майдоса рылись среди сморщенных трупов в поисках часов, колец, монет и портсигаров, в развалинах крепостей вновь стучали коготки черепах, квакали лягушки, пилили сверчки. В лесках выглянули желтые цветы, в сосняке запели желтые птички, и в этой красоте меня окутывали печаль и одиночество.
70. Тамара принимает гостя
Стояло лето 1916 года. Минул год с высылки армян; несколько месяцев назад франки скрылись с Галлипольского полуострова в темноту зимней ночи. Каратавук еще служил в тамошнем гарнизоне, а Мехметчик, бежав из трудового батальона, вел рискованную жизнь изгоя в неколебимых горах Тавр. Левон с женой умерли от истощения, жестокости, голода и отчаяния где-то на усеянном костями пути в Сирийскую пустыню.
Мало что осталось прежним. В Эскибахче всю работу выполняли дети, женщины, древние старики и немногочисленные мужчины, вернувшиеся с фронта калеками. Население жило впроголодь, многие совсем отчаялись. Банды дезертиров регулярно отнимали припасы, находились люди, кто обчищал соседские поля, хотя пойманных заслуженно подвергали самосуду. Верблюдов не осталось, лошади сохранились только у Рустэм-бея, уцелело всего несколько осликов и коз.
Сам облик города свидетельствовал об экономическом и моральном упадке. Захламленные улицы не убирались, сорванные ставни пьяно повисли в искореженных рамах, веселенькая краска на стенах, наличниках и дверях давно облупилась. Бродячие собаки, уже не получавшие милосердную корку хлеба от доброй души, сдохли и гнили на улицах, густо наполняя воздух неотвязным сладким зловонием смерти, которое вытеснило запах ублаженной земли и диких цветов со всех обезображенных полей Европы. Кривляки-идиоты, сидевшие рядком на изгороди, сильно пообносились и уже не служили забавой для себя и других — уныние голода покончило с приятностями раскрепощенного безумия.
Полки немногих открывшихся лавок были пусты, да и денег ни у кого не имелось. Бывшие армянские лавки разграбили. Бесхозно прогнулись на своих треногах лотки, некогда ломившиеся от товаров и загромождавшие площадь, где уже не сидел Стамос-птицелов, поскольку красавцев-зябликов нанизали на палочки, зажарили и съели с потрохами он сам и его родные. Не приходил сюда и Мехмет-лудильщик, ибо из далекой экзотической страны Корнуолл[79] больше не доставляли олова, да и кастрюли, в которых нечего было готовить, снашивались медленнее. Не показывался здесь и Али-кривонос, не имевший молока на продажу, ибо почти всех коз угнали бандиты. Али-снегонос все так же проживал с супругой и четырьмя детьми в дупле могучего дерева, но уже не таскал через площадь капающие мешки, поскольку у народа не было денег на лед. Али считал, ему повезло — они с ослицей были в горах, когда жандармы реквизировали вьючных животных. Повезло и Герасиму, счастливому в браке с Дросулой. Он ушел в море, когда христианских юношей забирали в трудовые батальоны; на случай нового появления жандармов, Герасим теперь спал на берегу возле лодки, а в удачные дни привозил в город рыбу. Он был среди очень немногих, кто разбогател благодаря невозможности потратить деньги, которые просто скапливались. В городе больше не появлялись обтянутые полосатым трико силачи с пушками, акробаты и жонглеры. Не показывался и умиравший ходжа Абдулхамид, лишь два жандарма все так же играли в нарды в тени платанов.
Прежним осталось немногое. Похудевший Леонид, ставший еще сварливее, строчил при свете вонючего фитиля подрывные трактаты и настойчиво отправлял свою писанину малочисленным соратникам в Смирне, не поколебленный несомненной, но неудобной истиной, что лишь континентальные греки действительно желают расширения греческих пределов до Анатолии и исполнения «Великой Идеи». Отец Дросулы Константин, пожелтевший и сбрендивший, топил в выпивке муки зубной боли, навлекая на себя всеобщее поношение. Превратившийся в скелет и окончательно спятивший Богохульник на улицах бранил Господа и его представителей. Пес благоденствовал в забвении среди ликийских гробниц, изредка обуваясь в обноски предательских сандалий Селима и питаясь, видимо, цикадами. Искандер ваял горшки и свистульки, а сборщик пиявок Мохаммед цаплей стоял в пруду у затопленной церкви, ибо пиявки еще пользовались спросом у врачей Смирны. Лейла-ханым пела под аккомпанемент лютни, и по ночам над крышами разносились грустные колыбельные на полузабытом греческом. Поскольку большая часть мужской прислуги ушла на войну, Лейла, временно ставшая домохозяйкой, приспособилась импровизировать еду из подстреленного Рустэмом на охоте и того, что удавалось найти на рынке. Теперь она, как всякая женщина, ходила искать дикую зелень, и, надо сказать, перемены пошли ей на пользу. Глядя на свои руки в цыпках и сломанные ногти, она даже слегка гордилась собой. Ее оставило приятное, но все же приправленное виной чувство, будто она прожигает жизнь в мишурной праздности, и она почти всегда светилась благодушием, несмотря на массу непривычных трудностей военного времени. Филотея находилась при ней, и они частенько отправлялись за дикими травами в сопровождении дряхлого сонного слуги, для их защиты вооруженного мушкетом. В отличие от Дросулы, Филотее не удалось своевременно выйти замуж, и теперь она ждала возвращения Ибрагима с войны. Вестей от жениха давно не было, и без неунывающей Лейлы-ханым девушка гораздо сильнее страдала бы от постоянных страхов и тревоги. По ночам дрозды и соловьи все так же изводили пытавшихся уснуть жителей Эскибахче.
И вот в такую оглашенную ночь из богатого дома на верхней окраине города выскользнула фигура и растворилась в темноте улочек. С головы до ног закутанный в черный плащ, человек, явно желавший остаться незамеченным, превратился почти в невидимку. Он постоял, давая глазам привыкнуть к темноте, затем тронулся в путь, спотыкаясь о булыжники неровной мостовой. Временами его чиркали сладко пахнущие листья фиг, пробившихся из расщелин между стенами и дорогой. Несмотря на темноту, было очевидно, что человек знает, куда идет, и его походка выдавала целеустремленность.
Он миновал бывшие армянские дома, мечеть с двумя минаретами и умолкший фонтан. Прошел через площадь и мимо церкви Николая Угодника с иконой Богоматери Сладколобзающей, написанной святым Лукой. Прошагал мимо нижней церкви, где в стропилах еще жил филин, а в склепе лежали омытые вином кости христианских покойников. Дальше улица резко сворачивала, упираясь в стоявший на отшибе дом с увитым розами фасадом, плоской крышей и окнами в сетках, скрывавшими его темное нутро.
Человек постучал в тяжелую дверь с затянутым кованой решеткой оконцем прямо перед носом. Внезапно оконце со скрипом отворилось, и изнутри выплыл густой аромат табачного дыма и амбры, ладана, лимонного масла, мускуса и пачулей. Выглянула пара огромных серых глаз, меланхолических и густо подведенных.
— Милости просим, — сказал низкий голос. — Что вам угодно?
Ухватившись за дверь и стараясь не обращать внимания на бешеные удары сердца, незнакомец искательно заглянул в сочувственные серые глаза.
— Я пришел к Тамаре-ханым, — прошептал он.
Вздохнув, проститутка откинула щеколду и впустила гостя.
Человек никогда здесь не бывал, и красноватое освещение показалось ему сумеречным даже после кромешной темноты улиц. В свои досточтимые дни зал служил мужской половиной, но сейчас большие ковры, перекинутые через шнуры, делили его на комнатушки. В каждой лежали подушки, кое-где имелись диваны. Почти во всех угадывались раскинувшиеся фигуры полуодетых женщин с неестественно бледными лицами, густо напомаженными алыми ртами и огромными кругами подрисованных глаз. Одни с вяло наигранным сладострастием манили гостя: «Иди ко мне, мой лев, ко мне, ко мне. Выбери меня, мой лев»; другие, с распахнутыми пустыми глазами, едва ли замечая его присутствие, глубоко затягивались кальянами, выпуская клубы дыма с прочувствованным и меланхоличным наслаждением.