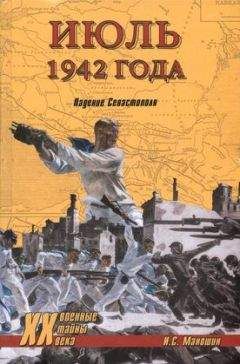Я не хотел смотреть на немецкий труп, но не смотреть не получалось. Омерзительнее всего было горло, куда вошел заточенный край лопаты. Я немножко разбирался в немецких знаках различия, убитый был унтерофицером, по-нашему, младшим сержантом. Награды на серо-зеленом кителе ни о чем мне не говорили. Мишка объяснил, что черный кругляш с каской, свастикой и мечами был значком за ранение. Я удивился – надо же, немцы и за ранение награждают. Другой, в виде венка с наложенной винтовкой и наверху орлом, давался за участие в атаках и рукопашных боях. «Вот и доучаствовался, – сказал Михаил. – Возьми на память, хороший трофей». Я помотал головой, трофей мне был не нужен, прикасаться к мертвецу не хотелось. Немецкий мундир, кстати, был пошит из хорошего сукна, слегка ворсистого и, вероятно, очень жаркого летом.
После авианалета недосчитались пятерых – двоих в нашем взводе, двоих во втором и одного в третьем. Бомбежки и штурмовки сегодня были долгими. Бомбардировщики разгружались не сразу, а постоянно висели над головой, давая возможность своей пехоте накапливаться для броска почти что в полной безопасности.
Новая атака началась, как только улетели самолеты. Немцы передвигались короткими перебежками, строча из пулеметов и швыряя перед собою гранаты – хотя расстояние не позволяло добросить их до нашего окопа. Они словно бы старались очистить от нас всякое возможное пространство.
Гранат у них было много. Они гремели всё ближе, и нам приходилось сгибаться, пережидая, когда пронесутся осколки. Я едва различал мимолетные тени и мельтешение огоньков. Надо было стрелять, но я не мог понять куда. Пулеметный огонь был настолько силен, что хотелось уползти, забиться в щель, исчезнуть. Я почти не замечал, как нажимал на спуск.
Гранаты стали рваться прямо над головой, одна залетела в окоп, мы кинулись в ход сообщения, и тут же рвануло за нами. Когда мы с Мишкой осторожно выглянули (один бы я нипочем не решился), там было трое немцев. Мишка дал очередь, и они повалились на дно, рядом с убитым лопаткой унтером. В ответ прилетела граната, ее подхватил и выбросил обратно Молдован. «Живем, Алешка», – крикнул Шевченко и снова занял старое место. Рядом с ним устроился Дмитрий Ляшенко. Я вогнал в магазин обойму и нащупал в кармане сухарь. Конца и края бою не было. Снова хотелось пить.
* * *
Но кончился и этот день – с бесконечными бомбежками, штурмовками, атаками и обстрелами. Правда, не было больше узла обороны, не было веселых лейтенантов-артиллеристов, не было пушек, не было дзотов, и в ямах на месте КП батареи залегли с пулеметами немцы. Их надежно прикрыла вздыбленная плита.
Нашего взвода, можно сказать, тоже не было. И полка, говорили, не стало. Подполковник, комполка и весь его штаб погибли, немцы сбили морскую бригаду, прорвались на правом фланге, и мы оказались в окружении. Перед тем как пошли на прорыв, я видел мертвого Пимокаткина, осколок авиабомбы рассек ему надвое горло, голова держалась на кожаном лоскуте. Шевченко забрал у него медальон (Пимокаткин не выкинул, не поверил примете), потому что книжки красноармейской в карманах не отыскал. Черт знает, куда она делась, красноармейская книжка, времени на поиски не имелось. Немцы палили со всех сторон, мы лежали, стараясь вдавиться в почву, а она, жесткая и твердая как камень, не позволяла вдавиться в себя. «Давай что есть», – проорал Старовольский Мишке. У него скопилось много красноармейских книжек, теперь прибавился цилиндрик с писулькой – будет чем заняться, если останется жив. Пинский лежал с нами рядом. Мишка хлопнул его по плечу: «Держись, братишка, проскочим». Тот кивнул. Вид его был решителен и непреклонен, руки сжимали винтовку.
Мы прорывались в сумерках, под пулеметным огнем, бившим нам прямо в тыл. Пробирались заваленными ходами сообщения, просто бежали по склону, ломали собою кустарник, швыряли последние гранаты, стреляли в скачущие среди деревьев тени. Противно свистели мины. Люди падали и застывали. Или катились вниз. Я добежал.
Когда поняли, что прорвались и что перед нами наши, мы снова заняли оборону. Остатки роты, остатки полка. Быть может, остатки дивизии.
* * *
Саню Ковзуна ранило осколком немецкой мины, его вытащил на себе Сергеев. Когда я почти случайно оказался рядом, над Саней, под обгоревшим дубком, склонилась Марина Волошина. Жалобно глянула на меня, и я сразу же понял – конец. Саня что-то бормотал, не открывая глаз, Маринка не понимала, а я разобрал: «Стий, смэрть, видступы… Ни, нэ видступыть… Стий, видступы…» Маринка шептала: «Держись, Санечка, держись», – но знала, что он уже там. Сергеев стащил с головы фуражку, помял ее в руке и ушел совещаться с командирами. Положение было малоприятным, немцы оседлали гребень высотки и теперь господствовали над нами.
– Куда его? – спросил меня Молдован, когда я, проблуждав в темноте, нашел наконец свой взвод.
Я показал на живот. Федя резко ударил меня по руке.
– Ты чего? – удивился я.
– На себе не показывай. Совсем, что ли, сказился?
– А-а…
Мы приступили к оборудованию окопов на новом рубеже, границей которого служил глубокий противотанковый ров. Работали всю ночь, опять не спали и почти не ели. По счастью, доставили воду. Теплую и очень вкусную. Такой сладкой воды я не пил ни разу в жизни.
В ту ночь, отправленный с Левкой и Мишкой в овраг, где разместился склад боепитания, я увидел комиссара Земскиса. Он брел, шатаясь, с перевязанной головой, косился по сторонам и не ответил на мое приветствие. Видимо, не узнал, больно сильно мы все изменились – заросли щетиной, почернели. Было к тому же темно, хотя постоянно взлетали ракеты, а небо пылало зарницами. Трудно было узнать человека в муравейнике, где копошились люди из разных подразделений – батальонов и даже полков – и все были чем-нибудь заняты. Но Зильбера Земскис приметил – капитальная фигура старшины читалась четко при любом освещении. Я успел заметить, как Земскис, осторожно к нему подойдя, подергал Зильбера за рукав и отвел подальше от посторонних глаз. Заметил – и сразу же позабыл про дурацкую конспирацию, занявшись получением боеприпасов.
Странный разговор старшего политрука Земскиса М. О. со старшиной второй статьи Зильбером Л. С.«Послушайте, старшина, – сказал Мартын Оттович Левке. – У меня к вам очень серьезное дело. Не по службе, а так сказать, по душе». Лев Соломонович неохотно ответил: «Слушаю вас обоими ушами, товарищ старший политрук». – «Вы видите, – сказал комиссар, – я очень опасно ранен. Не буду говорить, по чьей вине, это не имеет такого значения. Немецкие снаряды не разбирают…» – «Не разбирают», – согласился с ним Левка. «В общем и целом, – сказал комиссар, – мне требуется помощь, ваша». Какая, Левка не спросил, военком объяснил ему сам: «Вы были там и видели…» – «Видел», – ответил Левка. «То самое безобразие». – «Безобразие», – согласился Зильбер. «Это нельзя так оставить», – закончил комиссар и вопросительно взглянул на старшину.
Тут Левка удивился первый раз: «Вы направду так думаете?» – «А что тут думаете вы?» – в свой черед удивился военком. «Я думаю, шо как вы весь пораненный, вам надо думать за эвакуацию». – «Направду?» – «А то… Вон вы какой – совсем бледный и немножко на ногах не стоите. А младшего лейтенанта не надо». – «Шо не надо?» – не понял Земскис. «Хипешу не надо. Простите, товарищ старший политрук, мине треба идти до своих. Разрешаете одер нейн?» Военком не разрешил и разразился серией вопросов: «За какой хипеш вы мне, старшина, говорите? Куда вы торопитесь? Что за спешка?» – «Война, говорят, товарищ военком».
Комиссар отозвался строго и с немалой обидой в голосе: «Я знаю о войне не хуже, чем знаете вы. Она у меня не первая. Я в Красной Армии с девятнадцатого года, бился на Украине с деникинскими полчищами, белопольскими интервентами, петлюровскими бандами, отражал комбинированные походы Антанты».
Зильбер недовольно переминался; разговор, не нужный с самого начала, становился непомерно длинным. «Я вам так скажу, товарищ комиссар, – наконец открыл он рот, – ничего же таки не трапылось, надо ложить на это дело и об него позабыть. Лейтенант хипешить не станет, а его, значит, тоже не надо».
Земскис подумал, что Левка всё понял, и решился слегка поднажать. «Вы меня удивляете, товарищ старшина. Вы и я люди близкие, социально и политически. Я красный латышский стрелок, вы, так сказать, Зильбер, а стало быть, наш элемент. Зачем вам выгораживать черносотенца и погромщика?»
Тут Левка действительно понял и решил, что пора кончать. «Вы, товарищ старший политрук, я вижу, думаете, что если человек родился евреем, так он завсегда будет трус или сволочь».
Земскис попробовал объяснить, что имел в виду совершенно иное, но Левка ему не дал. «А это, товарищ комиссар, не так. Евреев в свете очень много, и они немножко разные. Вот Илья Эренбург – знаменитый писатель. Леонид Утесов – певец. Полковник Фроим Гроссман – начарт в Чапаевской. Наш комдив вроде тоже из наших. А я так вообще – разрядник по боксу».