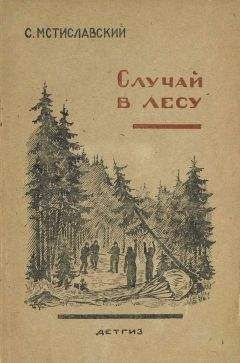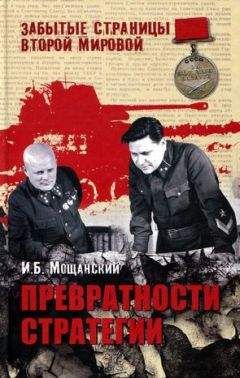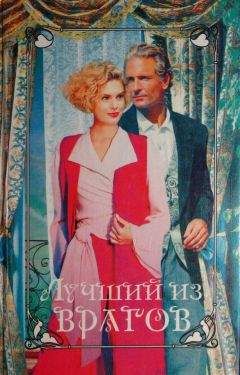– В комнату номер четыре.
Это, несомненно, был ее голос, ее манера говорить – чуть распевно на «а», слегка грассируя, что – по его мнению – придавало выговору этому какое-то особое очарование; конечно, это она, если только он не рехнулся окончательно и не спит наяву...
А потом он ее увидел – когда ворвался в комнату номер четыре – и узнал в первый миг только по волосам, потому что она стояла спиной к двери, разговаривая с Виллемом. Виллема узнал сразу, хотя тот был в английской военной форме, а Таню – только по цвету волос, она тоже была в чем-то военном, в брюках и мешковатой американской штормовке с подвернутыми до локтя рукавами; огромное, во всю стену от пола до потолка, окно выходило на юг, комната была затоплена солнцем, и в этом ливне слепящего сияния волосы ее горели начищенной медью. Услышав, как он распахнул дверь, Таня оглянулась и вся просияла, словно озарившись изнутри тем же ликующим весенним светом. Бросив своего собеседника, она кинулась к нему и повисла у него на шее.
– Господи, как я рада вас видеть, Кирилл! Хотя мне уже вчера сказали, что вы здесь и у вас все хорошо, но увидеть вот так...
– Танечка, а я ведь ничего ровно о вас не знал, и вдруг такой шок – представляете, услышать вдруг ваш голос, – я решил, что схожу с ума.
Таня расхохоталась.
– Ну да, я так и знала, что вы удивитесь! Нарочно так придумала – мы с Вилли приехали, он говорит «сейчас будем искать, лагерь большой, надо будет объявить по радио», ну я и решила сама сказать! А то ведь, думаю, переврут так, что вы свою собственную фамилию не распознаете, где уж им произнести правильно. Кирилл, мне просто не верится – ну расскажите, как вы все это время...
– Сейчас, минутку... – Болховитинов отошел поздороваться с Виллемом, тот, улыбаясь, протянул руку.
– Рад видеть, господин инженер, – сказал он по-немецки, – я надеялся на такую встречу.
– Спасибо вам за жену.
– Это вам спасибо – если бы не вы тогда... С этого все и началось.
– Да, кто бы мог подумать. Дома у вас благополучно? В тех местах, кажется, шли бои.
– Оказалось немного в стороне. Ну, не буду сейчас вам мешать, мы еще поговорим.
– Да, да, непременно...
– Вилли! – окликнула Таня, когда он уже выходил из комнаты. – Ты не забудешь про бумагу?
– Не беспокойся, все будет сделано, – ответил Биллем.
– Главное, чтобы побольше подписей и печатей, понимаешь?
– Да, я понял. Ну, счастливо!
– Вы с ним, я вижу, уже на «ты», – сказал Болховитинов, ощутив вдруг укол ревности.
– Еще бы, вместе прятались! С вами, кстати, нам тоже давно пора бы уже перейти на «ты» – скоро будет три года, как мы знакомы, к тому же вы как-никак мой муж. Не смейтесь, я так часто, говоря о вас, повторяла «мой муж, мой муж», что сама в это поверила. Может быть, рискнем?
– Ну... давай! – храбро сказал Болховитинов.
– Какой ты у меня послушный! – Таня, привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку. – Нет, мне и в самом деле трудно было последнее время говорить тебе «вы».
– Какое последнее время – в Энске?
– Нет, вот теперь. Я ведь часто с тобой разговаривала – мысленно. А ты не слышал?
– Боюсь, что нет, – признался он честно.
– Ну, это просто мы еще не на одной волне. Но расскажи, как там у вас все было! Говорят, бомбили страшно. Что в Калькаре?
– Анна и Надежда живы-здоровы, кланяются тебе. Потом расскажу. Ты-то как все это перенесла?
– Я? – Таня пожала плечами. – Просидела как у Христа за пазухой, они все там обо мне так заботились – вообще, семейство удивительное, совершенно какое-то книжное. Молодые баронессы эти, сестры Виллема, – одна моя ровесница, другая старше – они за всю жизнь ни разу не выезжали никуда, ничего не видели, на меня смотрели вот такими глазами – ты, говорят, такая счастливая, столько всего повидала, у тебя такая интересная жизнь! Еще бы, говорю, особенно интересно было в Эссене... С младшей, Вильгельминой, чистим мы раз коровник...
– С баронессой?
– А что, мы там все сами делали! У них нет ни одного работника, они ведь жутко бедные, сестры от приданого отказались, чтобы брата послать в университет...
– Кстати – о какой бумаге ты ему напоминала?
– Ну, это насчет тебя. Насчет твоего участия в Сопротивлении!
– Какого еще «моего участия»? Что ты придумала?
– Ничего я не придумала! Вилли рассказал, как ты устроил ему побег и как потом помогал минировать какие-то дороги...
– Это ты считаешь участием в Сопротивлении?
– Да, считаю, – с вызовом сказала Таня, – и хочу, чтобы другие тоже считали!
– Да как ты не понимаешь, что уже одной просьбой – насчет бумаги – поставила меня в идиотское, постыдное положение!
– В какое это, интересно, положение?
– В положение человека, который примазывается к чужой победе, вот в какое! Тебе это непонятно?
– Нет, мне непонятно! Ты что хочешь делать после войны – сидеть у себя в эмиграции или ехать домой?
– Ты прекрасно знаешь, что я намерен ехать домой.
– А кто тебя туда пустит – об этом ты подумал? Эмигранта, который служил у немцев!
– Не служил, а работал, это все-таки разница..
– В органах попробуешь ее объяснить, эту разницу! Да пойми же, тебе необходимо какое-то подтверждение того, что ты был здесь связан с антифашистами! И это никакая не ложь, ты ведь был связан – ты еще в Энске нам помогал, правда, я не знаю, сможет ли теперь хоть кто-то – кроме меня – это подтвердить, и здесь тоже помогал голландцам – не все ли равно чем, в какой форме, важно, что помогал! Так что ты со мной не спорь, я знаю, что делаю. Я уже все выяснила, я ведь побывала в нескольких лагерях – как только их начали создавать, все искала тебя! Так вот, здесь нам оставаться нет смысла! Отсюда всех отправляют в Бельгию или во Францию, там уже будут наши советские представители, а они с тобой просто разговаривать не станут – эмигрант, и кончено дело, катитесь отсюда...
– Но что же тогда делать? – упавшим голосом спросил Болховитинов.
– Меня слушать, это прежде всего! Надо как-то переждать в этих краях, а потом – когда союзники войдут подальше в Германию – пробираться на восток, самим пробираться, понимаешь? Там уже совсем будет другое дело, среди своих – да, может, я и Дядюсашу разыщу, почем знать? А через Германию мы проберемся, там теперь такая будет неразбериха, начнут возвращаться беженцы, эвакуированные, неужели не проскочим? Но, конечно, документы какие-то необходимы, я почему и сказала Вилли насчет этой бумаги!
Она убеждала его с таким жаром, что вся раскраснелась. Оглянувшись, схватила со стола графин с водой, жадно напилась прямо из горлышка, потом стащила с себя куртку и осталась в такого же защитного цвета гимнастерке, тоже не по росту широкой.
– Где это тебя экипировали? – улыбаясь, спросил Болховитинов.
– Вилли устроил – я так вся обносилась, ужас, и нигде ведь ничего не достанешь, а тут американцы открыли какой-то пункт помощи беженцам – нас теперь «ди-пи» называют, – выдавали одежду, обувь...
– Он что, в армии?
– Да, в своей, просто у них сейчас обмундирование английское. Ой, ну я так рада, Кирилл, ты просто не можешь себе представить! До сих пор кажется, что это все во сне, я ужасно соскучилась по тебе за эти полгода – подумай, ведь полгода уже прошло, а кажется, будто все это совсем недавно было – когда Анна с Риделем меня на шоссе похитили... Он тоже там, в Калькаре?
– Нет, уехал в Дрезден, и я боюсь, что с ним плохо.
– Почему?
– Дрезден ведь разбомбили в прошлом месяце, он уже был там.
– Бедняга, – сказала Таня, – надо же – под самый конец! Хотя мог и уцелеть, не все же погибают. А что сестрички-лисички?
– Ты не поверишь, они решили не возвращаться. Вообще хотят жить в Германии.
Таня удивления не выразила.
– А это многие теперь, – сказала она, – я разговаривала в лагерях, примерно половина не хочет ехать. Боятся! А я вот ничего не боюсь, – объявила она беззаботно. – Главное, мы теперь вместе, выкрутимся как-нибудь... Ой, ну я так по тебе соскучилась! А ты вспоминал обо мне хоть немножко?
– Таня, – сказал Болховитинов. – Неужели ты... до сихпор ничего не заметила? Я ведь люблю тебя – с самого первого дня, и я думал, что ты еще там, в Энске, это поняла...
Она придвинулась к нему совсем близко и, опять привстав на носки, тронула его губами где-то возле уха.
– Я все поняла и все знаю, – шепнула она, – только не надо об этом, милый...
Нет, не суждено было сестричкам-лисичкам остаться в Калькаре наследницами так полюбившегося им гастхауза. Через два дня после того, как уехал Болховитинов, по городку расклеили приказ, обязывающий всех иностранцев, прибывших в Германию после сентября 1939 года, в недельный срок явиться на сборные пункты, откуда Союзническая администрация помощи беженцам будет осуществлять организованную их отправку по местам довоенного проживания.
Анна, прочитав это, почувствовала слабость в коленках. Она представила себе возвращение в Краснодар, змеищ-соседок, злобно завидовавших ей с Надькой за «непыльную» работу на немецкой кухне, вспомнила, как два года назад мглистым ростепельным деньком торопливо закидывала узлы с пожитками на высокий борт вермахтовского грузовика, а змеищи глазели изо всех окошек... Хотя какой там Краснодар? Кто их теперь туда пропишет, на какую такую жилплощадь? Хорошо еще, если дадут прописку где в райцентре, а скорее всего, и туда не пустят, а загонят в какую-нибудь станицу подальше, в самый нищий, задрипанный совхоз, и будут они жить в саманном катухе, вкалывать в полеводческой бригаде или на винограднике, без прав и без паспорта...