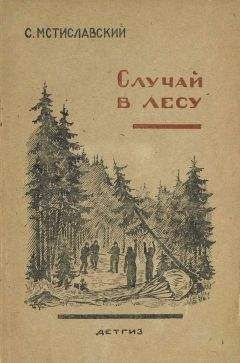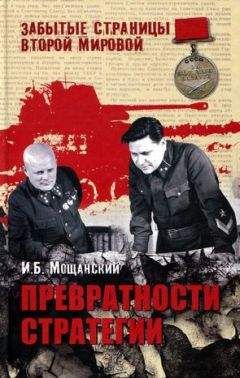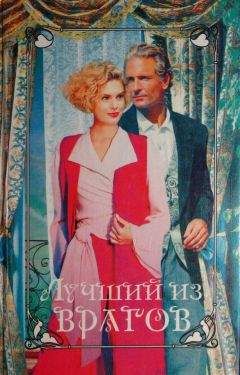Анна, прочитав это, почувствовала слабость в коленках. Она представила себе возвращение в Краснодар, змеищ-соседок, злобно завидовавших ей с Надькой за «непыльную» работу на немецкой кухне, вспомнила, как два года назад мглистым ростепельным деньком торопливо закидывала узлы с пожитками на высокий борт вермахтовского грузовика, а змеищи глазели изо всех окошек... Хотя какой там Краснодар? Кто их теперь туда пропишет, на какую такую жилплощадь? Хорошо еще, если дадут прописку где в райцентре, а скорее всего, и туда не пустят, а загонят в какую-нибудь станицу подальше, в самый нищий, задрипанный совхоз, и будут они жить в саманном катухе, вкалывать в полеводческой бригаде или на винограднике, без прав и без паспорта...
В гостинице в этот день было пусто, Надька повезла хозяйку к соседнему бауэру по каким-то меняльным делам, постояльцев не было – накануне выехала последняя орава канадцев, а новых еще черти не принесли. Анна вдоволь наревелась у себя в комнате, потом отчаяние сменилось злостью: ладно, поглядим еще, много вас тут таких начальничков! Раскомандовались, паразиты заморские, кому куда ехать и где кому проживать...
Выбрав в кладовке хороший окорок из тех, до которых еще не добрались заморские паразиты, она затолкала его в сумку и побежала к своему дружку вахмистру. Тот, однако, сразу замахал руками – нет, нет, он тут ничего сделать не может, достаточно того, что в свое время записал их полячками, совершив тем самым прямое служебное преступление. Сейчас он совершенно бессилен, мало того – неизвестно еще, что будет с ним самим, относительно статуса охранной полиции нет пока никаких инструкций; как знать, не отнесут ли ее оккупационные власти к категории подлежащих роспуску нацистских организаций – хотя коричневых среди шупо было мало, даже он, вахмистр, никогда не принадлежал к этим «партайгеноссен». Чего не было, того не было.
Окорок он, впрочем, взял – в обмен на ценный совет. Не надо падать духом, сказал он, и нечего заранее впадать в панику. Тут им сейчас ничего не добиться, страна оккупирована, и нарушать приказы новой власти слишком опасно. Другое дело в Голландии, куда всех вывозят, – там нет оккупационного режима, восстановлена довоенная гражданская администрация, и удрать из сборного лагеря наверняка не составит труда. Попросту улизнуть и устроиться работать в любом крестьянском хозяйстве! Рабочих рук сейчас не хватает повсюду, а весенние полевые работы ждать не будут.
Совет был хорош, но оказался не очень-то выполним на деле. Скоро, после слезного прощания с хозяйкой, взявшей с них слово вернуться при первой возможности, сестры очутились в Голландии – но без бумаг, без знания языка (если не считать дюжины-другой словечек на нижнерейнском диалекте) и, главное, без малейшего представления о том, как действовать дальше. Хотя Анна считала себя ловкой и предприимчивой, да в какой-то степени такой и была, но качества эти проявлялись больше по мелочам, а к действиям серьезным, требовавшим обдуманного подхода, она не была приучена совершенно.
Им с Надькой до сих пор мало что приходилось решать самим. Решали за них или обстоятельства, или – чаще всего – просто другие люди, обладавшие властью. Единственный случай, когда выбор зависел от них, был там, в Краснодаре, с устройством на работу в столовку, да и то сказать, невелик был тот выбор – прислуживать немцам или голодать с больной матерью на руках... Ну а потом, в эвакуации и дальше в Германии, они лишь выполняли то, что было приказано. Это уж им просто повезло, что попали в калькарскую гостиницу, могли ведь и на военный завод послать.
А теперь, в этих английских лагерях (они скоро потеряли им счет, переезжая из одного в другой), надо было решать свою судьбу самим, и решать быстро. А что тут решишь? Попытались было пристроиться к полякам (у тех, говорили, есть в Лондоне какое-то свое правительство, и оно разрешило всем желающим остаться на Западе), но из польского сектора их турнули сразу – единственное, что Анна знала по-польски, было «ясна холера» и «вшистко едно война». А соотечественники ничем помочь не могли, сами были в таком же аховом положении.
Вчерашние остарбайтеры, освободившись, сразу сделались какими-то другими – пришибленными, осторожными, боялись лишнее слово сказать. Из них, правда, сразу выделилась группка активистов – те, наоборот, шумели, вызывающе громко распевали «Широка страна моя родная», требовали, чтобы каждый советский человек носил красную повязку на рукаве или вырезанную из жести звезду, и готовили уже какое-то культурное мероприятие – отметить День Парижской коммуны. В одном из лагерей оказался портрет товарища Сталина в парадном маршальском мундире; активисты решили, что необходимо установить круглосуточное дежурство, а то мало ли какую могут устроить провокацию, небось, скрытых врагов хватает. Отказаться никто, ясное дело, не посмел – стояли у портрета вождя попарно, вроде как в почетном карауле, сменяясь каждые полчаса. Англичане посматривали с недоумением, но препятствий не чинили, один только нашелся явный злопыхатель – всякий раз, проходя мимо, ржал с обидным выражением и сверлил пальцем висок.
Эти же активисты поговаривали угрожающе, что не все в фашистском рабстве вели себя, как подобало советским людям и комсомольцам, и теперь кой-кому придется держать ответ перед Родиной.
Там уж перед Родиной или перед кем, но что ответ держать придется, Анна не сомневалась. Может, горлопаны эти потому и проявляют столько сознательности, что у самих душа не на месте – заранее хотят выслужиться. Да только этим у нас хрен выслужишься, думала она злорадно, спрос теперь будет со всех один... Сама она боялась до обмирания, хорошо хоть Надька не ныла, подбадривала – ладно, мол, выкрутимся как-нибудь. Что с нее взять, с дуры лупоглазой, привыкла, что за старшей сестрой не пропадешь. А как тут теперь не пропасть?
Кроме страха за будущее, Анне еще и вид окружающей действительности надрывал сердце. Перевозили их из лагеря в лагерь открытыми армейскими грузовиками, вся страна была напоказ – сказка, а не страна. Люди, что ли, здесь какие-то из другого теста? У нас ли дома не работали, только и слыхать было про стахановские рекорды да трудовые победы, а из грязи и нищеты не вылезали. Германия, конечно, тоже удивила всех богатством и чистотой, но немцы, известное дело, всю Европу ограбили, потому и живут в достатке; а кого грабили голландцы? В школе, правда, Анна учила что-то про колониальную систему, только ведь на колониях все-таки, наверное, больше купцы да плантаторы наживались, а не эти трудяги с лоскутными полосочками полей и огородных грядок. Нет, тут колониализмом было не объяснить, голландские единоличники ишачили на своих лоскутах сами, без помощи негров или малайцев, – вкалывали с раннего утра до позднего вечера, благо весна была дружная, ранняя. А хаты у всех – загляденье, та кирпичная, та штукатуренная, в темном переплете брусьев на немецкий манер, под красной, чисто промытой черепицей (здесь, казалось, и пыли-то обычной нет), все в подстриженной по шнуру зелени. Рай, не земля! Анна на любую работу была готова, лишь бы остаться тут, никуда не уезжать.
Кое с кем она все-таки постепенно сошлась поближе, те тоже не рвались домой – никто там не ждал. В одном из лагерей начальница-англичанка, немолодая и с лошадиным лицом, понимала по-немецки, и они решились наконец спросить: будут ли отправлять домой всех подчистую или только, кто хочет. Англичанка долго не могла ничего понять, потом наконец до нее дошло – показав устрашающие зубы, она замотала головой, нет, нет, конечно, насильно никого отправлять не будут, свобода выбирать место проживания есть право каждого человека, это демократия, за это и сражались против Гитлера... Анна и другие девчата воспряли духом.
А наутро они нашли свои имена в вывешенном у канцелярии очередном списке отъезжающих (куда и зачем везут, не сообщалось). В путь тронулись около полудня, несколько часов колонна катила теми же ухоженными краями – крошечные поля, каналы, ветряные мельницы, кое-где помещичьи усадьбы в уже подернутых редким зеленым дымком молодой листвы парках, тесно скученные городки, переходящие один в другой. Какой-то оказавшийся в их машине грамотей сказал, что это уже вроде и не Голландия вовсе – недавно бельгийскую границу переехали.
Под вечер стала заметна близость большого города, пошли задымленные фабриками предместья, заводские трубы, эстакады, решетчатые мачты электропередач. Скучные, без зелени, застроенные одинаковыми красно-кирпичными домами улицы постепенно расширялись, становились наряднее, просторнее, под стрижеными деревьями гуляли с собачками сытые, чисто одетые буржуи. На тенистом бульваре – солнце было уже совсем низко – машины стали тормозить у чугунной невысокой ограды, за которой по зеркалу неподвижной воды плыла как на картине пара белоснежных лебедей. Анна загляделась на них, разинув рот, и не заметила, как с другой стороны подошел к грузовику офицер в незнакомой форме, с широкими, как дощечки, золотыми погонами на плечах.