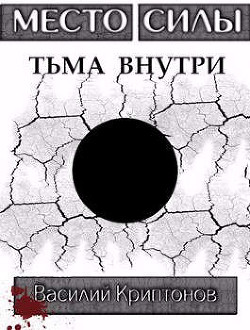озерку, чтоб заправить паровозный котел.
Одно меня обрадовало: санитар нашей теплушки, молчаливый рябой солдат, еще в дороге сказал мне точный адрес госпиталя, и я на первой же стоянке, когда вагон не трясло, как в лихорадке, написал Люде письмо. Потом из госпиталя, еще и еще. Но мои письма уходили словно в пустоту. Ни одного ответа я не получил…
Я выпроводил сотрудников из кабинета, запер дверь на ключ и сел ждать, когда междугородная выполнит мой торопливый заказ. И вот он, протяжный звонок междугородной. Я поспешно схватил трубку.
Издалека, словно из-за моря, среди неясного шума слышу тихий и немного встревоженный голос:
— Вельдина слушает.
— Это Людмила Михайловна? — кричу, запинаясь.
Но трубка молчит. Что-то затрещало, вмешались отчаянно ругающиеся чужие голоса, треск, гудки. Стремясь преодолеть осточертевший шум, я уже во весь голос кричу:
— Лаймово! Лаймово! Где Лаймово?
— Вельдина слушает. Кто говорит?
— С вами говорит Ярцев. Вы меня слышите?
— Ярцев?.. — послышалось в трубке.
— Да, да, Михаил! Я лежал в медсанбате, где вы были медсестрой. Вы помните? С раненой ногой? Помните?
Я жду, я напряженно жду — и никакого ответа.
— Лаймово! Вы меня слышите?
— Очень плохо. Говорите громче.
И надоумил меня черт заказать этот мучительный разговор! Я уже совсем не верю, что это Люда.
— С вами говорит Михаил Ярцев, — громко, четко, выделяя каждое слово, кричу я. — Люда, это вы?
Слава богу, кажется, треск перестал.
— Да, — послышалось очень тихо, и не то это голос, не то трудный вздох.
— Здравствуй, Люда! Наконец-то ты нашлась! А я столько искал тебя! Сколько писем написал из госпиталя! Скажи, а чем кончилась та история с немцем? Он выжил?
— Да.
— А кто он?
Люда помедлила с ответом, а потом сказала:
— Я об этом писала тебе на редакцию… Еще тогда…
— Когда? Я не получал ни одного письма… Люда…
Нас оборвал приказной голос телефонистки:
— Линия нужна для срочных переговоров. Заканчивайте.
— Люда, кто же он, этот человек? Ты меня слышишь? Ты слышишь?
Но в трубке мертвое молчание…
Я хожу по кабинету, угнетаемый тягостным состоянием неудовлетворенности и досады. Как будто, придя из магазина, я обнаружил, что мне завернули не то, что я просил. Я стал воспроизводить в памяти весь этот трудный и путаный разговор и пришел к выводу, что Люда не обрадовалась моему звонку. И я тоже хорош, привязался к ней с этим немцем!
Да, но ведь она говорила о письмах, отправленных мне в редакцию. Куда они могли деться? Где почта тех лет?
Я отправился к ветерану редакции Кириллу Антоновичу в отдел писем. Тот поднял от бумаг коротко стриженную седую голову и посмотрел на меня поверх очков, чудом державшихся на кончике носа. Я придвинул стул и сел перед ним.
— Кирилл Антонович, — начал я не очень уверенно. — У меня к тебе дело.
Подрагивающими пальцами он снял очки, чтобы не мешали, и взглянул на меня выжидательно. Последнее время на летучках я часто критиковал отдел писем и теперь, видя некоторую растерянность самого старого нашего газетчика, испытывал неловкость. Когда он не писал, а слушал кого-нибудь, он старательно прятал руки, чтобы люди не видели, как мелко дрожат его пальцы. А слушать ему приходилось немало людей, которые посещали редакцию чаще всего с жалобами. В этом смысле работа в отделе писем самая неблагодарная, и редко кто из «писучих» газетчиков надолго здесь застревает. Кирилл Антонович, видно, по-настоящему любил свою работу. Он в отделе без малого тридцать лет. Одно время, незадолго до войны, его даже назначили редактором. За год работы на высоком посту он, говорят, ничего приметного не сделал. Но уж очень мало оставалось тогда работников, и сейчас все считали, что он крепко выручил редакцию в то тяжелое время. Для редакции Кирилл Антонович — настоящий клад. Он помнит фамилии и место жительства всех рабселькоров, а в картотеке их более пятисот! За год в редакцию приходит шесть-семь тысяч писем. Но если редактор спросит о какой-нибудь рабкоровской заметке, Кириллу Антоновичу не потребуется и минуты, чтобы найти ее и положить на стол. Так уж четко налажено у него дело.
Я был уверен, что Кирилл Антонович найдет письма Люды, если они не затерялись в дороге, и боялся я только одного: не сожгли ли архив военных лет. Надежды, конечно, было мало: в годы войны редакция несколько раз переезжала с места на место.
— Мне, Кирилл Антонович, надо найти несколько писем. Но откровенно скажу: не надеюсь.
— Это как так? — удивился он и обиженно откинулся на спинку стула. — В моем отделе, Михаил Леонидович, такого случая ни разу не было.
Пришлось побыстрее исправить оплошность:
— Дело в том, Кирилл Антонович, что письмо-то пришло еще в 1944 году.
— Ну и что ж такого? — твердо возразил заведующий. — Вот если бы оно пришло до мая 1934 года, то есть до моего прихода в редакцию, тогда другое дело. За тот период я не отвечаю.
Он вышел из-за стола.
— Как фамилия автора?
— Вельдина Людмила Михайловна. Нет, нет, Лекалова. Это теперь она стала Вельдиной.
— Лекалова А. М., — повторил он, запоминая. — Прошу потерпеть пару-другую минут.
Кирилл Антонович пошел в машинное бюро, где стояло три шкафа его архива. Почти в каждом кабинете редакции были его вместительные «крепости», но старик помнил наизусть, где письма не только за год — за тот или иной месяц. Вскоре он вернулся, неся под мышкой тощую выцветшую папку.
— Вот как тогда писали, — показал он мне ее, смахивая пыль. — За весь год двести пять писем. Нынче за три месяца в девять раз больше.
Он бережно положил папку, поближе придвинул стул и, прочно усевшись за своим столом, снова взял папку обеими руками. Я заметил, как загорелись его глаза. Селькоровские письма — страсть Кирилла Антоновича. Каждую бумажку он десятки раз переложил с места на место, но один раз прочитал, после чего аккуратно подшил в папку и потом долго-долго держал в мыслях. Содержание некоторых наиболее значительных писем он помнил десятки лет.
— Так, так, Леонидович, не надеешься, значит? — насмешливо поблескивая глазами, сказал он. Я понимал его торжество, его гордость. Но забота не проходила.
— Посмотрим, посмотрим. Говоришь, Лекалова?
Он открыл папку и стал искать фамилию по перечню авторов, нашел букву «Л», быстро провел пальцем сверху вниз и скосил на меня встревоженный взгляд. Потом провел пальцем в обратном порядке — снизу вверх и тут же закрыл папку.
— В сорок четвертом году такой автор в нашу газету не писал, — категорически заявил он. — Ну-ка вспомни получше, может, фамилию спутал или не в том