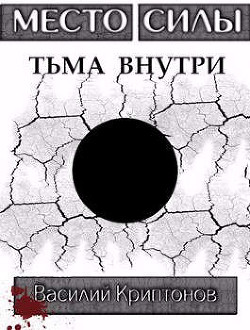немца. Наверное, кто-то доложил ему, что на улице замерзает человек.
На нарах подняли головы.
— Что ни говори, доктор прав, — высказался лежащий возле меня пожилой солдат, держа на груди забинтованную руку. — Уж коли попался к нам, хоть и враг, помощь какую-нибудь надобно оказать.
— Ты все равно, как монах, рассуждаешь, — со злостью сказал молодой темнолицый сибиряк. — Если ты фашистов за людей считаешь, представляю, какой ты был боец. Тебе не воевать, а в церкви служить.
— Пленным всегда помощь оказывали, — несмело возразил пожилой.
— То другие войны были, фашистов не было. Ты разве не читал, как они людей живыми закапывают?! — злее проговорил сибиряк. — По-твоему, лечить их за это? А после в тыл. Там у матерей и детей последний кусок отберем и отдадим этим гадам?! Так, что ли? Молчишь?
Сибиряк, охваченный гневом, пытался перегнуться через меня, чтобы схватить огромной лапищей пожилого солдата, но я вовремя привстал и уговорил сибиряка не связываться. Пожилому ничего не оставалось, как замолчать и тем самым признать поражение. Да что там говорить, когда и так все ясно! Только вот непонятно, почему таким добреньким стал сразу наш хирург? Оказывается, не один я так мыслил. Немного погодя заговорил и моряк:
— Я смотрю, этот тихоня хирург очень уж к немцам жалостливый. Что-то здесь не так. У меня из плеча вынимал пулю — как в собачьем теле ковырялся. А тут — гуманность!
Люда не приходила. Да и раненые не звали ее. Если бы не этот немец, они бы десятки раз уже позвали сестру.
Но вот она пришла. Видимо, долго бродила по метели: и плечи, и шапка, и складки телогрейки — все запорошено снегом. Уставшая и разбитая, с тенью горькой обиды на лице, она медленно прошла вдоль нар, не глядя, по обыкновению, по сторонам на нас. Когда девушка подошла к дверям тамбура, кто-то из раненых сказал не то ей, не то товарищу по нарам:
— А немчура-то бормочет про себя.
Люда остановилась возле меня и посмотрела выжидающе, с виноватой улыбкой. Конечно, ей нечего сомневаться в правильности своего поступка, который одобряет почти весь медсанбат. И я хотел об этом сказать, но меня опередил сибиряк.
— Сестра, — сказал он, — этот «гуманист» откуда взялся?
— Напрасно вы так о нем, — ответила она. — Он хороший человек.
— Ты не думай больше об этом, — сказал я, желая подбодрить ее, и кивнул в сторону немца: — Фриц все равно умрет.
— Спите, спите, — сказала девушка, скупо улыбнувшись.
Раненые смолкли. Только и слышно, как свистит за стеной ветер. У меня отяжелели веки и вскоре смежились. И вижу во сне, будто я у себя дома. Мать недавно помыла полы и скамейки, и они желтели, как воск. Я удивляюсь, зачем она нарядилась, как на праздник? Сквозь промерзшие окна пробиваются солнечные лучи, озаряя избу тихим радужным светом. С потолка свисает колыбель, и в ней лежит на спине мой брат. Лицо у него белое, как бумага, и глаза закрыты. У него тяжело вздымается грудь, и он жалобно просит меня:
— Батяй, симан! Батяй, симан! [1]
Я хочу подойти к ведру и зачерпнуть кружку воды, но я не могу идти. Посмотрел на ноги: они опутаны веревками, и я не могу развязать их. Хочу позвать на помощь маму, но пропал голос. И я в отчаянии машу руками, но мама все равно не подходит, она где-то во дворе.
Очнулся. Но что такое? Голос брата все еще слышен…
— Батяй, симан! — слышу где-то позади себя.
Я повернул голову, и все тот же голос:
— Батяй, симан!
Но это же мордовские слова. Где-то здесь есть мордвин, и он просит пить. За три года на войне я не слышал ни одного мордовского слова. Но не может быть, чтобы на моем пути не встречались земляки. Возможно, они не раз были со мною рядом. Но мордвина трудно отличить от русского как по лицу, так и по выговору. Поэтому я был очень удивлен, услышав родную речь. Может, этот голос во мне звучит как продолжение сна?! Я толкнул сибиряка:
— Леша! Спишь?
— Нет. Чего?
— Слышишь голос?
— Давно бормочет. Это немец.
— Немец? Не может быть! Это не немецкие слова!
— Да ты, видать, и вправду не проснулся. Мы уж тут досыта насмеялись: все команды выкрикивал. Наверное, думает, на фронте, против нас воюет.
— Подожди, не шуми, — прошу я товарища. Я приподнялся на локте и стал пристально всматриваться в немца.
— Батяй, симан, — уже безразлично, безнадежно просит он, и я вижу, как жалобно, по-детски, словно плача, растягивает он последнее слово: «Си-и-ма-а-а-н».
Что-то резкое толкнуло меня в сердце, и я что есть силы стал кричать:
— Сестра! Сестра! Сестра!
Тут же подбежала Люда и испуганно спросила:
— Что с тобой? Что случилось?
— Люда, ты слышишь? Слышишь? Это не немец! Это мордвин. Он говорит по-мордовски.
Она с недоумением смотрит на меня, а потом спрашивает:
— Как? Откуда ты знаешь?
— Это не немец! — кричу я. — Он говорит по-мордовски! Дай скорее ему пить!
Забыв про раны, я соскользнул на край нар и схватил ее за руку.
— Это не немец! Не немец! — кричу ей в лицо. Но она стоит, как каменная, и смотрит на меня отчужденно.
— У тебя жар. Ложись и успокойся.
— Дай же ему пить! — в отчаянии со злобой кричу я. — Дай ему пить! Какая ты бессердечная!
Люда, не говоря ни слова, пошла в дежурный закуток. Все напряженно ждали, выйдет она оттуда или нет. Но вот одеяла раздвинулись — Люда несла стакан воды. Медленно, очень медленно подходила она к таинственному раненому. Десятки пар глаз наблюдали за ней. Она остановилась возле носилок и посмотрела в лицо полумертвого человека, у которого чуть шевелились губы:
— Батяй, симан…
Люда склонилась над носилками, но, будто испугавшись, тут же выпрямилась. Немного постояла, потом снова наклонилась и подняла левой рукой страшную с кровавыми сгустками голову и прислонила край стакана к черным, потрескавшимся губам.
Раненые вытянули с нар головы, зорко всматриваясь в загадочного человека.
— Пьет, пьет! — послышались голоса.
Люда прошла мимо меня, безразличная, отрешенная. Через несколько минут она возвратилась вместе с хирургом, сосредоточенным и хмурым. Он остановился возле носилок и, склонившись над раненым, пощупал у него пульс. Потом что-то сказал Люде. Она прошла к своему столику и тут же назад, неся в руке шприц. Свободной рукой она расстегнула у полуживого человека верхние пуговицы немецкой шипели и френча и сделала укол. Вяло, безразлично, будто по принуждению. Вскоре пришли два санитара. Они взяли носилки и понесли в операционную.