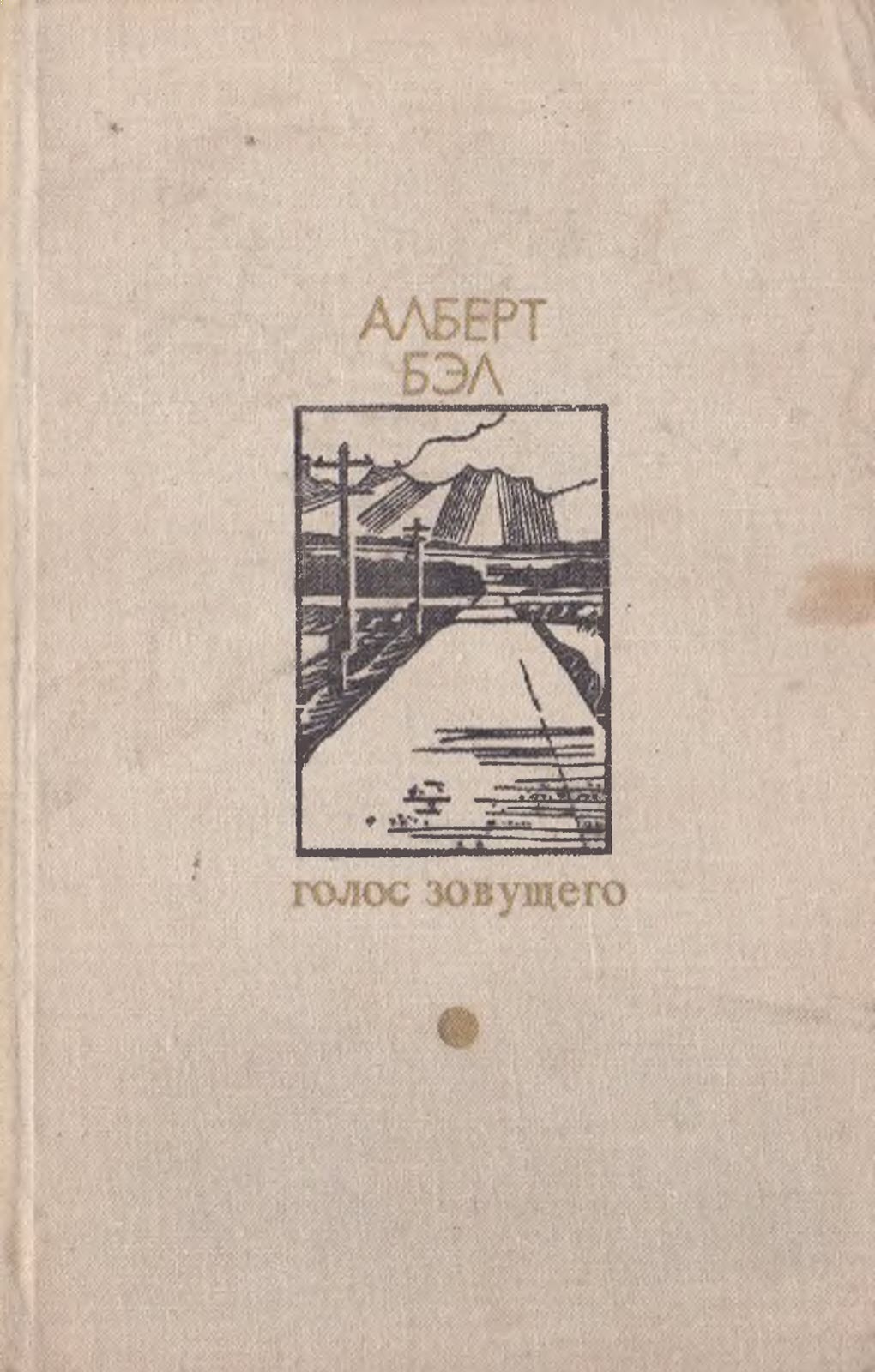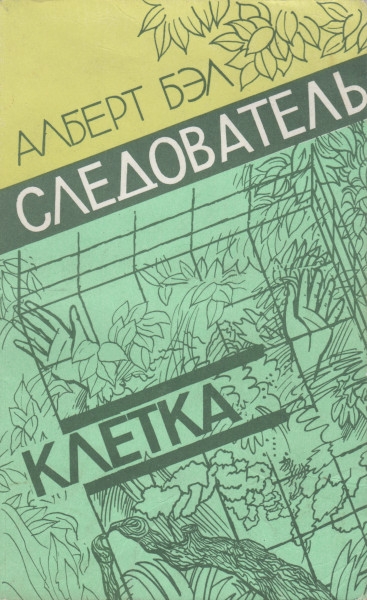гнезда; еще казалось, что все поправимо, еще буржуй ликовал, убежденный, что победа осталась за ним, а горячая лава с пролетарского, крестьянского вулкана уже подползала к дворцам, с ревом катилась в поместья.
Будут дни бежать и сливаться в недели, недели в месяцы, месяцы будут бежать и сливаться в годы, побежит огонь по бикфордову шнуру времени, и в семнадцатом году грохнет взрыв, от которого содрогнется мир и в прах разлетится веками взращенная монархия, тюрьма народов, Российская империя.
Неспокойно спалось Роберту Штраусу, снился ему сон, и во сне его звали настоящим именем — Янисом Лутерсом, и привиделось ему, как разбитые дружинники после битвы под Айзпуте отступают, продираются сквозь дремучий лес, и сам он, уходя все глубже, отбился от остальных, остался один и все бредет, бредет, разросшийся под высокими соснами ельник цепляется колючими лапами за одежду, царапает лицо. Двустволку он не бросил, тянул за собой, держа ее за ствол, а бедро холодил тяжелый маузер.
Унес ноги.
А как же другие? А как же правое дело?
Он задыхался от боли, временами казалось, что печень раздуется и лопнет, боль сжимала грудь, боль от злости.
Он знал, что злиться опасно, от злости портится кровь, разум затмевается, злость мешает думать, и, проходя мимо старой мшистой ели, он с размаху саданул по ней прикладом бесполезной теперь двустволки. Та переломилась с сухим треском, приклад, пристегнутый к ремню, больно стукнул по ноге, но боль та была пустяком по сравнению с болью сердца.
На лесной опушке он наткнулся на мертвое тело. Дружинник из Айзпуте. Старуха мать весь лес обегала, пока собака не вывела на эту опушку, и теперь старая стояла, воздев руки к небу, призывая все самые страшные кары на головы убийц родного сына:
«Вороны мертвым глаза выклевывают, вы хуже воронов, у живых глаза клюете!
Свиньи поедают раненую тварь, вы хуже, чем свиньи, живых живьем пожираете!
Чтоб сгорели вы на малом пламени, чтобы в жилах ваших кровь с песком перемешалась, чтоб мозги у вас повысохли, как ласточкины гнезда, чтобы кости ваши, как сухой бурьян, ломались, чтобы в глотки вам колы нетесаные загоняли, чтобы кишки у вас и селезенка, как сита, прохудились, чтобы вас черви заживо источили!»
Выбившись из сил, старая примолкла. Ворожея, причитательница, мудрости народной хранительница, она помнила древние проклятия.
И сколько праведного гнева было в ее словах!
Слова, словно птицы, вздымались над лесом, унося с собой несказанную боль и ненависть, слова распускались на ветвях деревьев, слова падали в землю, прорастали семенами, и люди собирали те слова вместе с ягодами, пили их с березовым соком. А позднее крестьяне срубили ту ель, под которой ворожила и голосила старуха, ель распилили, раскололи, высушили, свезли в город и продали, и еловые поленья запылали в печах, и зимними вечерами люди смотрели на огонь, и в огне возникали былые битвы, и опять звучал голос зовущего.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ИСПЫТАНИЕ КЛЕТКОЙ
Прочтя эту книгу, иной ее покупатель пожалеет о затраченных средствах. Обманул его Алберт Бэл. Зацепил на пустой крючок: в каждый из трех романов ввел… следователя.
Нечестно. Ведь следователь — непременный и незаменимый персонаж детективной литературы. Где следователь — там всегда закрученная интрига, тайна и поиск, пальба и допросы, погоня и смерть. А у Бэла — что?
Ну, ищут кого-то. Кого-то допрашивают. Постреливают кое-когда… Только все это, как говорится, дым без огня. Бутафория. Блеф. Ловля на приключенческий антураж. Чтобы под шумок холостых выстрелов накормить обознавшегося покупателя всякими «вумными» разговорчиками: это, мол, нравственно, а это, мол, нет, надо жить так, а не эдак.
Философия, одним словом. Скука. Два целковых прямого убытка…
Именно так или очень похоже будет думать наш покупатель, и вряд ли есть смысл ему возражать. Ибо он прав: романы Алберта Бэла не для чтения по дороге из дома на службу или со службы домой. Не для приятного препровождения неприятного времени.
Они для другой надобности. И для другого читателя. Для которого художественная литература не развлечение, а возможность еще и еще раз с помощью книги добраться до сокровенного в собственной душе и учинить себе пристрастный допрос: кто ты? как бы ты выглядел в тех обстоятельствах, которые сотворил для своих героев писатель?
Человек должен знать, на что он годится. Детективная атрибутика у Алберта Бэла не прикормка для карася, а способ, посредством которого он возбуждает в своих романах чрезвычайную обстановку, и, в ней оказавшись, каждый из персонажей, как пи брыкайся, не в состоянии миновать, обойти частокол нравственного чистилища. Здесь обрывают свой век иллюзии и начинается век знания о себе и себя: кто ты.
Это и есть та точка, к которой спешат и в которой сходятся все устремления и все мысли Алберта Бэла. Тут его основная работа. Тут он пирует. Тут и читатель словно бы в самом деле попал на пир, присматривает для себя, примеряет на глаз, чья из одежд приглашенных к столу ему по размеру, по стати, по выправке. Благо «хозяин» — человек хлебосольный: вон сколько всяческого народу наприглашал. Выбирай!
О тех, кто собран за этот стол, и пойдет разговор. Но прежде, как водится, скажем несколько слов о самом «хозяине».
Латышский писатель Алберт Бэл не молод уже, но еще и не стар: сегодняшний его возраст — это гребень возможностей для профессионального литератора: сорок лет. Не берусь утверждать, что уже со школьной скамьи Бэл готовил себя к писательству, но сама его биография — как нарочно придуманная — говорит о том, что готовил. Может, и неосознанно, но готовил.
Посудите сами.
Человек поступает в техникум коммунального хозяйства, учится там два года и вдруг — поворот на сто восемьдесят градусов — сдает экзамены в училище циркового искусства. Отслужив в армии, люди обычно возвращаются туда, где учились или работали. Бэл не возвратился. Новое его дело — чертежник. Но и за кульманом он простоял недолго — стал спортивным инструктором. Легко ли вяжется спорт с археологией? Вроде не очень. А у него связалось: попал в археологическую экспедицию, притом не рабочим — землю копать, а художником.
Приехал обратно. Теперь за что взяться? Какое дело теперь ему всех нужней, всех важней? Пошел в… актеры миманса. Он много видел и много слышал. И многое в жизни понял. Ему уже есть что сказать. Но надо, чтобы накопленное и понятое в хождениях по людям улеглось, отстоялось, а не разбрызгалось по мелочам