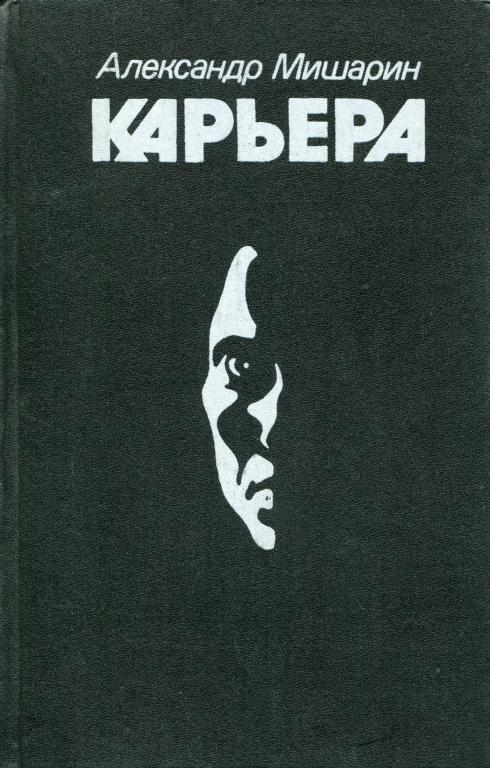жизнь.
— Я сам… Сам уже, — снова недовольный, отстранил его отец и осторожно двинулся через столовую к выходу. Он привычно придерживался пальцами буфета, кресла, обеденного стола, притолоки: его тело как бы перебрасывалось от одного предмета к другому. По проверенному, знакомому маршруту он добрел, наконец, до крыльца. Остановился, прислонился к резному косяку, снял очки и некоторое время стоял молча, прикрыв веки и успокаивая дыхание.
Корсаков понимал, что сейчас на него не надо смотреть.
Февронья Савватеевна выглянула из приоткрытой двери кухни. Хотела что-то сказать, но не решилась.
— Дайте отцу фуражку. Белую, — все-таки не смогла не скомандовать мачеха.
Фуражка была еще тридцатых годов, пожелтевшая на сгибах, но крепкая, словно намертво ссохшаяся, как гипсовая. Кириллу Александровичу показалось, что ее недавно чем-то красили.
— Зубной пастой, — угадал его мысли отец. — Парусина настоящая…
Он улыбнулся и, делая вид, что не замечает сыновней руки, сам осторожно спустился по ступенькам.
Александр Кириллович оглянулся на сына, и все его — победившее немалое для него пространство! — существо было теперь удовлетворенным, даже легкомысленным.
— Он и ботинки каждое утро чистит, — пожаловалась снова вышедшая из кухни Февронья. — А ему для сердца вредно…
— Башмаки, — тихо, но отчетливо проговорил отец. — Ботинки, полботинки, четвертьботинки… И так далее?
Он искоса, с усмешкой, поглядел на сына, мол, Февронья в своем репертуаре!
— Опять вы в беседку собрались? Там солнце! — Февронья все-таки не могла остаться неправой. — Лучше здесь, на крылечке посидите.
— На крылечке только бабы судачат! — отец, покачиваясь и для равновесия слегка растопырив руки, двинулся к беседке.
— Я вам кресло вынесу?
— Тоже мне… «Выноситель»! — он не оборачивался и все тверже двигался дальше.
— Ну, что с ним поделаешь? Говори — не говори — махнула она рукой и ушла в дом.
Кирилл Александрович догнал отца, когда он уже остановился перед двумя ступеньками, ведущими в старую, давно не крашенную беседку.
— Хавронья иногда напоминает мне сенатора Врасского… Павла Леонтьевича! — неожиданно очень серьезно сказал Александр Кириллович. Сына всегда поражала просыпавшаяся вдруг у отца забытая манера другой речи, другого тона, других словесных оборотов.
— Удивительный был господин! Если можно так выразиться, — «глупость хитрости».
И неожиданно, гвардейски расхохотавшись, отец добавил:
— А бабник был… Неумолимый! Но это… уже из другой оперы.
Он сидел теперь прямо, закинув вверх голову в фуражке.
Корсаков понял, что отец все знает о его делах.
— Просить, конечно, я никого за тебя не буду, — не глядя на сына, начал было Александр Кириллович. — Да и некого!
Кирилл невольно глянул на него.
— Логинов сам у меня просит. Так уж у нас повелось… С тридцать третьего года…
Корсаков не был даже знаком с Иваном Дмитриевичем Логиновым. Он знал, что примерно раз в полгода тот навещает отца. Сам Александр Кириллович никогда, насколько он знал, не бывал у Логинова. Ни дома, ни на службе. Говорили они всегда наедине, часа по три — по четыре. О чем говорили — отец никогда не делился ни с кем. Особенно усердствовала в расспросах Марина, но отец, который вообще не слишком привечал ее, после подобного наступления явно давал понять, что они с сыном загостились, утомили его и что больше всего на свете он не терпит праздного любопытства.
— А что же, интересно, он у тебя может просить? — с неожиданным для себя раздражением спросил Кирилл.
— Когда он у меня был помощником… — не сразу, пересиливая что-то в себе, начал Александр Кириллович. — В начале тридцать третьего… Да, да! После пленума… Как раз по итогам двух лет… Так вот я ему тогда сказал: «Что ты тут делаешь? Это не мужское занятие — чаи подавать. Есть место первого секретаря в Верхне-Куровском районе. Давай, живи, действуй. Становись мужчиной».
Отец, в отличие от многих его сверстников, не возбуждался, не молодел от воспоминаний. Наоборот, становился строже, задумчивее. Отрешеннее…
— Вот… Оттуда Логинов и начал! — прервал он сам себя… — А просить… У меня? Конечно, нечего… Но ведь и я ничего не прошу!
Александр Кириллович снова замкнулся, тяжелее опустились веки.
Кирилл смотрел на него и все-таки, в который раз, не мог поверить, что за этой чуть трясущейся головой, старой кожей, ушедшими в себя, в темноту спрессованного времени, глазами живет, помнится, таится другая, почти бесконечная жизнь. И самое начало века, и вступление в партию, и учеба в Геттингене, и эмиграция, и красинская группа большевиков-террористов, и смертная казнь, в последнюю минуту из-за настойчивых просьб великосветских родственников замененная пожизненной каторгой. И гражданская война, освобождение Сибири, Дальнего Востока, его имя рядом с именами Блюхера, Уборевича, Постышева. И снова работа за границей… Работа, которую он, Кирилл, не знал как назвать, определить… И снова Россия, участие в съездах, пленумах. И начало войны, ленинградская блокада, полет с особым заданием Сталина в Америку… И исчезновение отца — сразу, с аэродрома, в начале 43-го на двенадцать с половиной лет… И снова — не конец! Снова — работа, работа… Последние попытки менять себя, мир, не сдаваться. Долгая, глухая отставка, пенсия и все блага — не по рангу, опала. И только последние годы снова какой-то интерес, воспоминания о нем. Может быть, потому, что Логинов?.. А может, просто он остался один из последних. Тех, внушающих и недоверие, и интерес, и странную боязнь: как в России издревле боялись старцев-колдунов, хранителей, вещунов?
Может быть, потому, что Корсаков по-настоящему узнал отца очень поздно, в семнадцать-восемнадцать лет, именно тогда-то, в Кирилловы студенческие годы, принятая ими обоими манера иронической, мужской свободы друг от друга переходила с ними из возраста в возраст. Это можно было назвать и доверием, и больше — уверенностью отца в сыне.
Кирилл Александрович помнил ночной разговор матери с отцом, когда сын вернулся вечером в непотребном состоянии после сдачи очередной сессии. На все причитания, возмущение, требование поговорить с ним «по-мужски» отец после долгой паузы ответствовал: «Если Кирилл сделал так, значит, он прав». И молчание после этой, закрывшей диалог, фразы. Мать лучше Кирилла знала отца… Она знала, что это последнее слово. И оно действительно было последним, потому что никогда больше в жизни Кирилл не давал повода для обсуждения его поведения.
Потом не стало матери. Отцовский