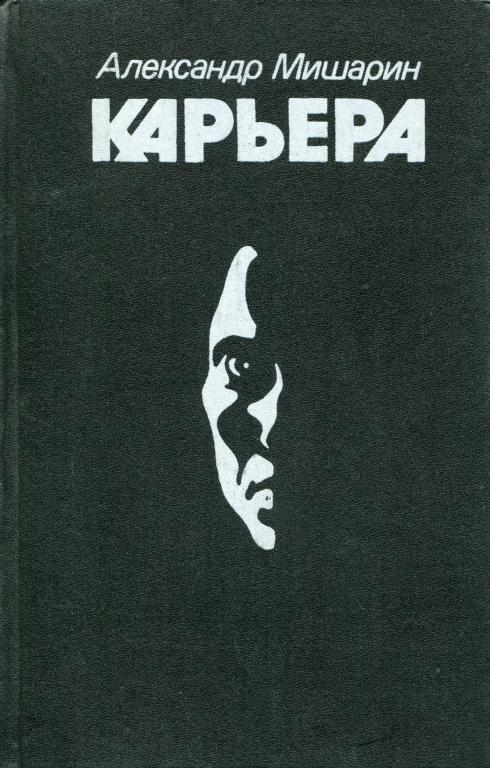— Ну, что вы, милый? Я никуда не пойду. Вытащили меня за город. И на том спасибо.
Он не успел удивиться, запротестовать, как она с мудростью старой армянки попросила его:
— Не портите мне так хорошо начавшийся день. Я просто полежу на травке до обратной электрички. И уже слава богу!
— Лина…
— А вы идите, идите… И не обращайте на меня никакого внимания. У вас же дела? Надо что-то предпринимать. На вас же лица нет…
Она посмотрела на него таким открытым, все понимающим взглядом, что Кирилл на мгновение растерялся.
— Нет, нет! Тогда я тоже обратно… с вами!
Она мягко и настойчиво, как час назад, в Москве, взяла его под руку и повела к выходу с платформы. Кирилл не понимал, почему он не сопротивлялся! Когда она, прощаясь, вдруг незаметно и осторожно поцеловала его в лоб, он понял, что она права и что он сейчас спокойно пойдет через сосновую рощу в глубь поселка, найдет знакомую тропинку, которая выведет его к дому отца, и ни на минуту у него не будет ни волнения, ни стыда, ни тревоги и неудобства…
Когда он обернулся на повороте тропинки, Лины уже не было видно. Нескошенная высокая трава около станции словно поглотила ее.
Кирилл Александрович знал, что сейчас он свернет на тропинку из высокого прохладного леса, и около калитки, опершись рукой на столб, будет стоять Февронья Савватеевна.
Он уже издалека увидел ее длинный, розовый, в мелкий синий цветочек, байковый халат. И так же положена левая полная рука и тот же взгляд…
Он заставил себя прикоснуться губами к ее пухлой щеке, коротко отчитался о себе, об отъезде семьи.
— Ну, как отец? — спросил он, когда они шли по длинной, аккуратно посыпанной песком, дорожке к старому дому.
— Плохо… — она покачала головой, и лицо ее сделалось многозначительным.
Другого ответа на этот вопрос у нее не было. Никогда! Поэтому Корсаков не слишком расстроился.
— Спит. Молчит… На «Амур» ходит гулять.
«Амуром» отец называл старые, неглубокие пруды, что были за лесом, недалеко от поселка. Посреди прудов на острове стояли еще петровские казармы и неработающая церковь.
— Сам ходит? — спросил он, невольно желая опровергнуть ее мрачные выводы.
— Сам, конечно. Я же совсем плохо двигаюсь…
Она посмотрела на него с осуждением, мол, мое здоровье никого не интересует.
Отец сидел в дальней комнате, где было прохладно, полутемно. Около его старого, продавленного кресла на столике, на табуретках были разложены газеты, пачки газет, в которых он имел привычку подчеркивать красным карандашом некоторые абзацы.
— Прикрой форточку! — вместо приветствия сказал отец. — А то что-то поддувает.
Он был в байковой тужурке, в теплом белье, кресло было глубокое, охватывающее его тело почти до плеч, но он все равно мерз.
Кирилл осторожно поцеловал его в белые волосы, тщательно вымытые, расчесанные. Знакомый, какой-то кедровый запах отца показался ему вдвойне родным, успокаивающим.
— Все штудируешь? — улыбаясь, кивнул он на газеты.
Отец со старческой внимательностью проследил, как он закрыл форточку, как сел за стол напротив, и, наконец, ответил:
— Нет… Глаза устают.
Он протер глаза своей большой, еще совсем нестарческой, мужской рукой, но внутренне по-прежнему остался вдалеке, не приблизившись к разговору.
Корсаков машинально взял одну газету, другую, мельком проглядел отмеченные абзацы. Удивительно, но отец по-прежнему отмечал самые общие, самые правильные, никогда не вызывавшие у него, Кирилла, интереса слова. В основном в передовицах, в ссылках на классиков.
— Это же общеизвестные вещи?! — невольно удивился он, но отец снова не прореагировал на его едва заметное раздражение.
— Да, да! Конечно…
Он издалека, словно примериваясь, посмотрел на сына и снова промолчал. Обычная его осторожная, сосредоточенная деликатность.
— Ну, вот… — Кирилл встал, потянулся, попытался почувствовать себя дома, почувствовать себя обычно, буднично, дачно: — А мои уже на юге! А я вот к тебе…
И снова он не услышал ни слов гостеприимства, ни ласки.
— Я займусь обедом, — сообщила с порога Февронья Савватеевна.
— Хорошо, — отец кивком головы отослал ее в кухню.
— Как ты? — Кирилл Александрович, опершись длинными своими руками в подлокотник, наклонился, повис над отцом.
Тот, не отвечая, осторожно потянулся к нему, обнял теплой спокойной ладонью за шею и поцеловал.
И тут же слегка, в плечо, оттолкнул.
Глаза отца вблизи всегда поражали Кирилла. Они были небольшие, почти неподвижные, но почему-то он как всегда не выдержал отцовского взгляда, сам потупился и отошел.
Кирилл понимал, что именно этого — особой близости любящих — так осторожно, так оберегающе мудро боялся Александр Кириллович. Не знал, какой он, Кирилл, в эту минуту, в этот год, в этом возрасте. Он по-прежнему, словно коря себя за долгое одиночество сына, жалел Кирилла.
— Ну что ты?.. Я… — отвечая самому себе, протестовал Корсаков. — Нет, я в общем-то… В порядке!
Он стоял спиной к отцу, у окна, но знал, что Александр Кириллович неотрывно смотрел на него.
Ему стало так нехорошо, неудобно перед отцом за свою вечную суетность, что ли… Неравенство.
— Сколько можно чувствовать себя ребенком?! У меня у самого уже скоро внуки будут…
Он тряхнул головой и, обернувшись, увидел в глазах отца такую любовь, такую прорвавшуюся боязнь за него — именно за него! Не за каких там детей, жен и внуков… А именно за него, сорока с лишним лет мужика, за своего единственного мальчика, — что Кириллу стало ясно, как же дались отцу те тринадцать лет, когда он, казалось, навсегда был отрезан, оторван в этой жизни от него, от Кирилла, от сына.
— Пойдем на воздух, — Александр Кириллович начал подниматься, путаясь в старом пледе, но, когда Кирилл пытался помочь ему, воспротивился и упрямо дернул плечом. Сделал неуверенный шаг, снова чуть не споткнулся о плед и тут уж невольно схватился за руку сына.
Корсаков почувствовал, как тяжело его худое, большое тело. Какие литые, каменные кости составляют этот огромный, надежный остов. Да, только оно, несокрушимое здоровье, помогло Александру Кирилловичу вынести все, что выпало на его долгую, независимую