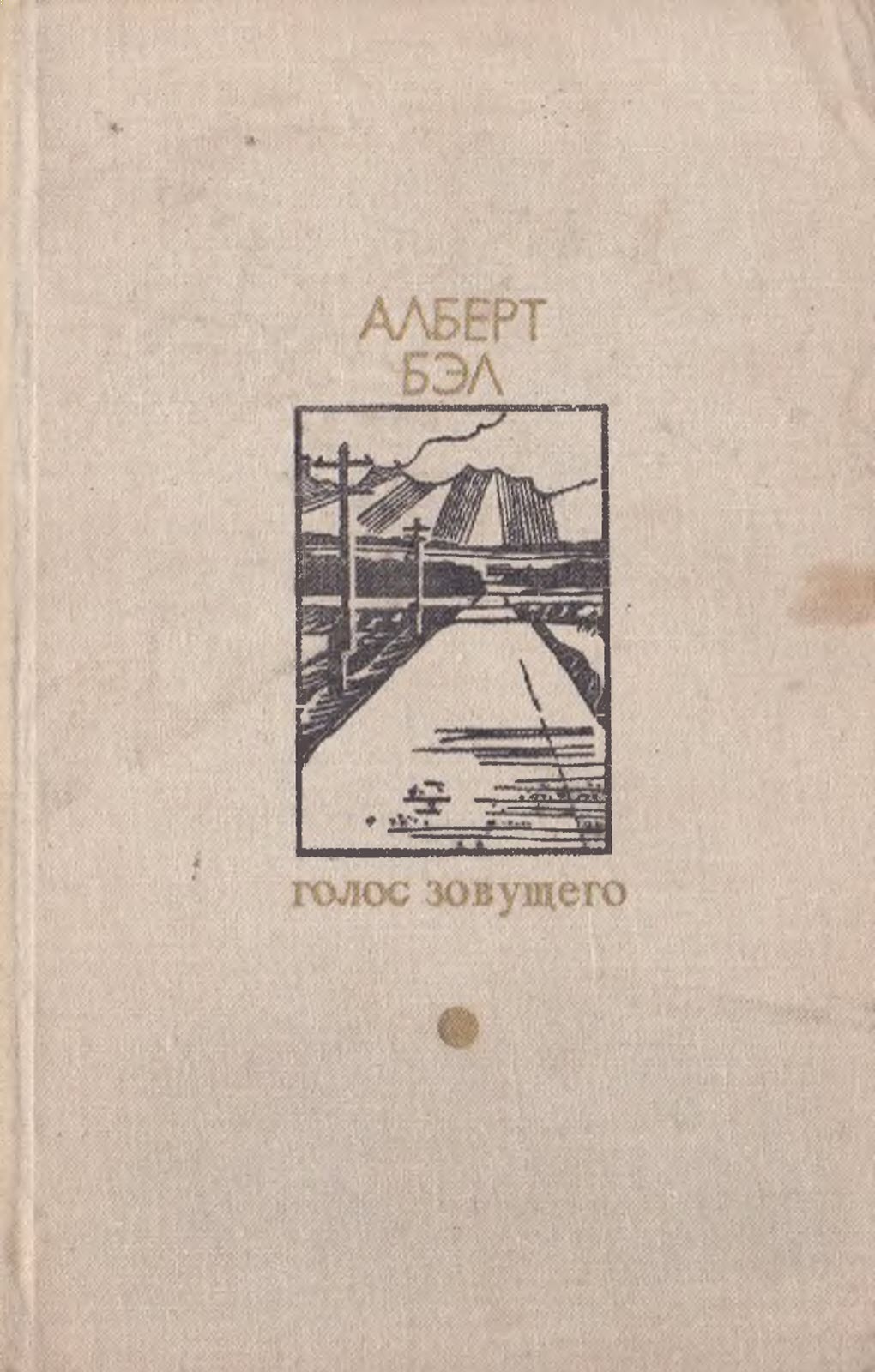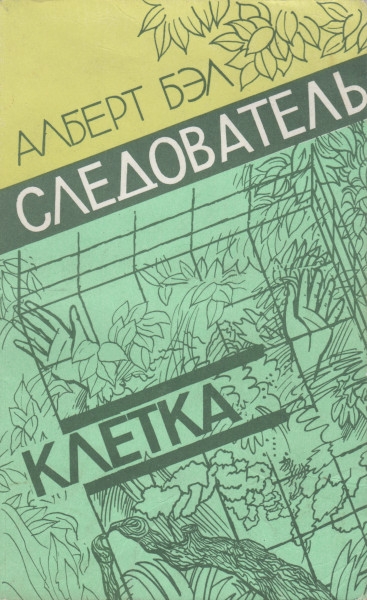с его мачехой, и с помощью Кризенталя гости обменялись несколькими фразами. Ева вышла в столовую накрывать на стол. Узнав, что Фанния изучает архитектуру, отец оседлал своего любимого конька. Влияние архитектуры на человека. Он говорил, что на психику влияют разнообразные факторы, но для жителей городов решающим фактором является архитектура. Гармонию любого сооружения наше сознание схватывает моментально, и полученное таким образом эстетическое удовольствие благоприятно действует на психику. Житель Нью-Йорка потому-то и отличается от жителя Риги, что Нью-Йорк не похож на Ригу. (Какое глубокое замечание!) А житель Лондона потому и похож на рижанина, что в основе архитектурных принципов двух городов имеется много общего. Парки, аллеи, невысокие дома. Покой.
— Вы бывали в Нью-Йорке и Лондоне? — спросила Фанния.
Да. Он ответил, что бывал. Говоря это, отец поглядывал на Рудольфа, стоявшего у окна. Да. Он побывал во всех европейских столицах, за исключением столиц Балканских государств. И, пожалуй, еще Испании. Уж так получилось, что не собрался в эти страны.
Рудольф повернулся и вышел. Я слышал, как скрипели под ним ступеньки. Хлопнула дверь на кухню.
И что важнее всего! Высота потолков! Если человеку приходится долго жить в квартире с низким потолком, он и сам как бы сжимается. «Вы только понаблюдайте, — с жаром продолжал отец. — Большинство людей ходит ссутулившись, с опущенной головой. Спросите их, где они живут. В новых домах. В квартирах с низкими потолками. И не последнюю роль играет окраска стен. Казенные маляры до того безобразно красят, что люди исподволь, сами того не замечая, набираются дурного вкуса».
Фанния сидела на синем табурете. Стройная, с тонкой талией и маленькой круглой грудью под белой блузкой. На щеках у нее заиграл румянец, но, может, виноват был огонь в камине. Ведь я же говорил ему, что Фанния с Рудольфом живут в так называемой малогабаритной квартире. К черту, подумал я, не такой уж отец скверный, каким пытается прикинуться. Несчастный, в общем-то, человек. Вот до чего доводит ирония. Он иронизирует над всем и вся, но поскольку ирония бессильна против тех, кого нет рядом, отец ее обращает против тех, кто под рукой. Когда никого нет поблизости, он, видимо, иронизирует над самим собой. Плохо дело. Очень плохо. Бледнолицый господин, как сказали бы индейцы, может лишиться кое-чего посущественней, чем скальп. Он может лишиться доверия.
На помощь пришел Кризенталь. Не говоря ни слова, он подался вперед, и на лице его появилось то самое знаменитое выражение. «Я знаю, что ты сейчас скажешь, — поспешил заметить отец, обернувшись к Кризенталю. — Ты скажешь: пусть каждый красит свои стены сам!» И отец пошел доказывать нецелесообразность такого подхода. Фанния улыбнулась моей мачехе, мачеха понимающе кивнула: «Ничего, потерпите немного».
Я осторожно прикрыл за собой дверь и спустился вниз по лестнице.
В столовой вдоль стен выстроились почерневшие от старости дубовые стулья, замысловатая резьба украшала их высокие спинки. Над столом висела позеленевшая бронзовая люстра. Горели только две лампочки, комната куталась в сумрак. У стен, втянув головы в плечи, плотно зажмурив глаза, затаились настороженные, сплюснутые чертенята. Я зажег всю люстру, черти выпрыгнули из тьмы и мигом превратились в спинки стульев. Массивный буфет хранил в себе хрусталь, фарфор, фаянс. Пол был прикрыт старым, вытертым ковром. В углу столик для радио, рядом с невысоким книжным стеллажом — два глубоких кресла. Перед ними в беспорядке валялись журналы, газеты, радиопрограммы, шали, кашне, перчатки и зонтики. Блестящая коричневая трость а-ля Чемберлен с любопытством уткнулась в страницы журнала «L’archilecture d’aujourd’hui». Изящный венгерский зонтик лежал по соседству с коробкой спичек «Fire Queen». На видном месте висели картины, в самом темном углу, у входа в отцовский кабинет, — небольшой рисунок углем. Здесь, внизу, все было как прежде. А второй этаж я перестроил на собственный лад. Пришлось выломать перегородки, изменить планировку комнат. Налево находилась мастерская, справа жилая комната, рядом ванная и спальня. И только на первом этаже я все оставил по-старому. Как прежде.
В кухне Рудольф разговаривал с Евой. Стрекотал холодильник.
Я знаю, нехорошо подслушивать, но мне не хотелось сразу входить. Мы с братом редко говорили об отце как человеке, если вообще говорили. На сей счет я держался несколько отличного, чем у Рудольфа, мнения. Если бы мы не прощали людям слабостей, жизнь потеряла бы всякий смысл. Слабость без конца и без края? Гуманизм, вот высший принцип. Мы вас овчинкой, вы нас безменом! Гуманизм, вот самый что ни на есть высший принцип. Будь добр с дурным и с хорошим. «Чуры-муры ушкам слышать далеко-далеко, чуры-муры ножкам бегать быстро-быстро». Ну, и так далее. Прекрасные воспоминания детства. Только я ни черта не помню. Не помню того, что помнит Рудольф. Гуманизм, вот высший принцип. Пока тебя не сотрут в порошок. А еще было «чуры-муры глазкам видеть зорко-зорко». Да будет так, немного подслушаем.
— Он постоянно упрекал себя за то, что женился на матери, — рассказывал Рудольф. — У нее не было ни денег, ни положения в обществе, ничего у нее не было. Доброта, ум, красота? Красота еще куда ни шло, а на что годилось все остальное? Я давно обратил внимание, что дети видят гораздо больше, чем принято думать. И позднее, когда я с ним разговаривал, когда убегал из дому при его появлении, он все-таки аккуратно приезжал каждый месяц, привозя нам с братом деньги. Ведь старая Талме была не в силах нас прокормить. Но если бы ты видела, до чего неприятен и до чего бездушен бывал Он в эти минуты! Из меня-то ничего путного не вышло, а вот Юрис научился обтесывать камни, и старик ждет не дождется, когда сможет урвать себе хотя бы листик от лавров сына. Иначе ноги бы его здесь не было.
— Но он приезжал к нам и просто так, без денег, — произнес я, открывая дверь.
— Подслушивал! — воскликнула Ева.
— Нехорошо подслушивать, малыш, — заметил Рудольф.
— Уж очень хотелось узнать.
— Что?
— За что ты так взъелся на старика?
— Не стоит.
— Нет, стоит. Ты старше меня, ты рассудительней! Ты помнишь то, чего не помню я. Конечно, старик спровадил на фронт Харалда, но это, как говорится, судьба. Тебя отец не пускал на войну, так ты сам ушел, я-то думал, вы из-за этого тогда с ним разругались. А то, что он любит из себя разыгрывать всемирного путешественника, хотя дальше пригородов Риги не выбирался, за это я его не осуждаю. У каждого свои слабости. К тому же ему хотелось позлить тебя, он знает, ты не терпишь таких