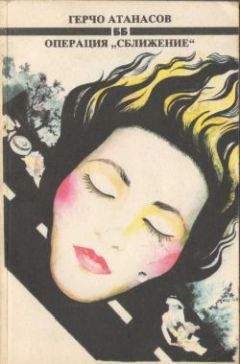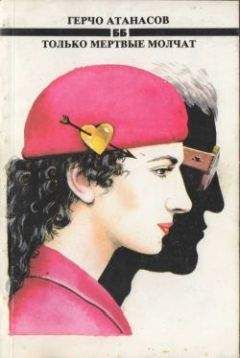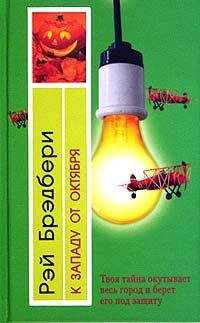этот разговор. Посидим как-нибудь за столом и по-людски все обсудим, если хочешь, давай дома…
Только теперь Нягол обернулся.
— По-людски, говоришь? Согласен в любое время, хочешь у тебя, хочешь — у меня. Но разговор считай оконченным.
— Ты, кажется, рассердился, — попытался улыбнуться хозяин.
— А ты доволен, — так что ли?
— Сам знаешь, какая у меня работа…
— Не жалей себя, — сказал Нягол со всей присущей ему жестокостью. — А редактора вы найдете. Ну, будь здоров!
В коридоре он вспомнил о Весо и решил заглянуть к нему. У Весо шло совещание, он выглянул на минутку, пожал ему руку. Договорились увидеться под вечер.
На улице Нягол неожиданно оказался наедине с самим собой, впереди маячил целый свободный день. Куда податься, что делать? Домой идти не хотелось, к брату нельзя — Елица очень об этом просила. Пожалуй, лучше всего вернуться обратно первым же самолетом, но он испытывал потребность повидаться с Весо, смыть неприятный осадок от разговора. «Надо телеграфировать Елице, что вернусь завтра, — подумал он и вспомнил о Маргарите — Опять я о ней забыл!».
Лицо его потемнело — что с ним произошло за эти недели, с тех пор, как они расстались в Зальцбурге? Почему он то и дело забывает о ней, как о случайной знакомой? «Ты совсем остыл, — сказал он себе, — что-то рано, не ожидал…»
Он позвонил из автомата. Никто не ответил. Интересно, где же она, театральный сезон кончился сообразил он, так что в театре ей нечего делать Значит, вышла в город. А может, просто не берет трубку?
— О, маэстро! Какими судьбами в столице об эту пору? Разве вы не в родных пенатах? Привет!
Это был Грашев, литературное светило, в летнем костюме.
— Здравствуй, Колю.
— Говорят, в Зальцбург ты ездил со своей Дульсинеей, я, брат, все знаю, — тараторил Грашев, пристально разглядывая Нягола. — Давай зайдем куда-нибудь, пропустим по одной, а?
Делать было нечего, они зашли в первый попавшийся ресторан, заказали водку и зеленый салат. Грашев первым хлебнул, закашлялся, а потом будто плотину прорвало: такой-то что ни месяц по заграницам мотается, другой хапанул второй заказ на один и тот же роман, в издательствах неразбериха, тиражной политики никакой, разные чинуши знай норовят срезать гонорар, руководство только и делает, что заседает, а в это время критики вершат суд и расправу, да молодые точат зубки… За полчаса Нягол узнал массу историй и происшествий — кто что сказал, кто какие козни строит, все было подано действительно мастерски, обрисовано кратко и метко, вместе со всей подоплекой событий, притом с высоты неизменной грашевской позиции: я — Никола Грашев, а вы, извините, кто будете?
— Ты мне скажи, Нягол, чего, собственно, хотят критики? Взять нас за ручку и переводить через дорогу только на зеленый свет?.. Не дождутся…
— Нам-то с тобой грех жаловаться…
— Не в этом дело, дорогой. Меня хвалят, тебя тоже, но не в этом дело…
Нягол знал подлинную причину грашевской тревоги: не так давно в академическом издании один известный критик позволил себе роскошь произвести разбор одной из хваленых грашевских книг. Он безжалостно раздел Грашева при всем честном народе, оставив его в неглиже — мятой, поношенной пижаме бюргера местного пошиба, который, по его же собственным словам, берется пропагандировать высокие идеи, изображать современные конфликты шекспировского масштаба и могучие характеры, испепеляющие страсти и героические судьбы функционеров, директоров, Диогенов от науки, медсестер и реформаторов села.
Естественно, Никола Грашев пережил встряску болезненно, но, к его чести следует признать, быстро оправился, последовали интервью с фотографиями и без фотографий, беседы на телевидении и рациораздумья по самым разным поводам, из-под его благородно разгневанного пера на скорую руку выбилось несколько новых опусов, они полетели на крыльях старой славы и новой молвы: Никола Грашев залатал пробоину, рассеял сгустившиеся тучи.
Однако Грашев, кажется, уже не тот. Под глазами легли какие-то тени, его беззаботность, которую принимали за врожденный оптимизм, на самом же деле это была не больше чем уверенность в успехе, подспудно перерождается в мнительность. Он стал подозревать окружающих в тайном сговоре, объяснение же находил самое простое: зависть, разумеется…
Нягол рассматривал его дорогой костюм, как всегда прекрасно сшитый из дорогого материала слушал и думал о том, что этот человек родился и вырос в селе, среди реальных обстоятельств и реальных людей, учился и работал в столице, тоже среди реальностей, и бог весть когда сделал крутой поворот, предавшись явному сочинительству. Это тем более странно, что Грашев не лишен ни таланта, ни культуры, хотя ум у него посредственный, Спрашивается, откуда же берется растущая водевильность его книг? Это непростой вопрос, и касается он не одного Грашева. Если здраво поразмыслить, а того лучше — вспомнить недавнее прошлое, то увидим, что Колю Грашев, до войны писавший рассказы о серости городского бытия, после победы вдруг бросился в кипящий водоворот преобразований и начал выдавать книгу за книгой о новой жизни и новых людях. Его рассказы, повести и романы были густо населены рабочими, крестьянами инженерами, общественными деятелями — с одной стороны, и врагами — с другой. Большинство из них размышляло вслух и произносило громкие фразы враги, конечно же, предпочитали шептаться и лобно шипеть), их судьбы были полны головокружительных событий, внезапно возникали тяжелые конфликты, которые так же внезапно разрешались, в сознании героев то и дело вызревал скороспелый перелом — словом, жизнь бурлила и била ключом. Нягола подхватила та же лавина, он и сам отдал ей дань, но Грашев ушел далеко вперед и догнать его было не просто. Нягол не раз задавался вопросом: как это произошло с нормальными людьми вроде него самого и Колю, откуда взялась эта пелена, застилавшая им глаза? Он был вынужден придать силу догмы, романтически разукрашенной, экзальтированной и экзальтирующей. Время было такое — духовно незрелое и весьма самонадеянное, мысль отступала перед порывом и самовнушением. Ему еще помнятся поездки по стране, наивные литературные посиделки, выездное трубадурство на местах и беседы в цехах и на полях, повышенная возбудимость, фаустовская атака на природу человека, побуждаемая самыми добрыми намерениями.
Теперь все это — достояние истории, но не для Колю Грашева. И Нягол как будто догадывается, почему. В отличие от большинства своих собратьев по перу, Грашев оказался непревзойденным романтиком в книгах и неожиданно предусмотрительным скептиком в жизни. Богемное писательское существование он очень рано, и притом систематически начал сочетать со столь прозаическими вещами, как общественные мандаты, высокие знакомства, ответственные редакторские и другие посты, связи и публикации за рубежом, речи и доклады на конференциях